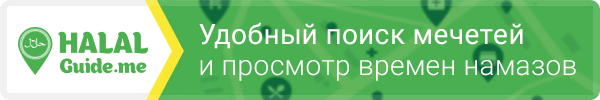Ислам Орианы Фаллачи и Ислам Петера Воге
13.03.2008 17:50
Эти книги написаны на двух концах Европы, двумя людьми, очень непохожими друг на друга: страстной по натуре итальянкой, ошеломленной уродствами мусульманского экстремизма, и спокойным, рассудительным норвежцем, другом многих «евромусульман», с некоторыми из которых он меня знакомил. Он внутренне убежден в жизнеспособности Европы, в способности евромусульман к ассимиляции и рисует картину контакта культур, ставшего кризисным из-за лихорадочного темпа истории и разных часов на разных континентах, но в принципе допускающего мирный диалог. Этот диалог совершенно немыслим в глазах Орианы Фаллачи. Европа и в особенности Италия кажутся ей подобием Древнего Рима, бессильно падающего к ногам сплоченной, монолитной орды варваров.
 Книга Орианы Фаллачи обладает всеми достоинствами и
недостатками страстной односторонности. Она написана ярко, талантливо — но вся
подчинена одному впечатлению: ужасу от падающих на ее глазах башен Манхэттена.
Она не убеждает, а заражает. На один стержень нанизывается все остальное, и
облик ислама сводится к одному его аспекту: к попыткам, время от времени,
вогнать действительность в прокрустово ложе утопии, к идеализированным нравам
четырех первых халифов.
Книга Орианы Фаллачи обладает всеми достоинствами и
недостатками страстной односторонности. Она написана ярко, талантливо — но вся
подчинена одному впечатлению: ужасу от падающих на ее глазах башен Манхэттена.
Она не убеждает, а заражает. На один стержень нанизывается все остальное, и
облик ислама сводится к одному его аспекту: к попыткам, время от времени,
вогнать действительность в прокрустово ложе утопии, к идеализированным нравам
четырех первых халифов.
Общество ислама задумано Мохаммедом и до некоторой степени осуществлено как твердый порядок, регламентированный Богом и его пророком. Однако общественная жизнь растет, меняется, ее нельзя целиком втиснуть в предписания. То, что кое-как удавалось в пустынях Аравии, не выходило в Багдаде и в Дамаске. В больших городах шел диалог культуры пришельцев с культурами побежденных, расцветали новые формы поэзии, укоренялись философия, наука, и все это вызывало нарекания стародумов, как бúда, нежелательное новшество, ересь. Это движение, салафийя, веками оставалось внутри государств ислама, время от времени вызывая взрывы фанатизма, жертвами которого стали мистик ал Халладж (святой для суфиев), поэт ибн Бурд и другие.
Иногда варвары-неофиты, усвоившие букву ислама, обрушивались на цветущие царства и искореняли бúду. Так было в мавританской Испании, которая дважды становилась жертвой берберов. Сперва ее завоевали аль-Моравиды, но они довольно быстро цивилизовались, и тогда их смели аль-Мохады. Ибн Халдун, живший в XIV в., построил на этом всеобщую циклическую теорию цивилизаций, но третья волна варваров пришла с севера, с религией любви и делами веры (ауто да фе), когда еретиков передавали светским властям, чтобы они поступили с ними по возможности кротко, без пролития крови. Для пущей кротости в потаенные места тела, перед костром, набивали серу. Я познакомился в Барселоне с женщиной, предки которой бежали от этой огненной любви в Тунис, под защиту шариата.
В Средние века мусульманский Восток был и цивилизованнее, и терпимее, чем Запад, во всяком случае до X в., отчасти и до XII столетия. Что касается арабской энергии распространения, то она выдохлась еще до монголов. С тех пор они покорялись чингизидам, тимуридам, сельджукам, османам. Правда, полковнику Лоуренсу удалось вдохновить некоторые арабские племена осадить Мекку. Но общим делом всех арабов (не говоря уже о всех мусульманах) этот эпизод Первой мировой войны никогда не стал. Занозой в арабском сознании стал только Израиль. В стереотипном мышлении туркам положено побеждать, истреблять непокорных и т. п. За долгие века это стало привычкой. И сейчас мировая совесть вяло реагирует на насилия турецкой военщины над курдами. Другое дело — израильская военщина. Это бúда, новшество, этого не должно было быть. И мировая совесть, под влиянием арабского чувства бúды, чутко откликается на любой инцидент. Все борцы за права человека на стороне попранного арабского достоинства.
Израиль поздно начал. Европейцы укоренялись на всех континентах несколько веков, при случае полностью истребляя местное население, и это было всего лишь издержками прогресса. А флаг со звездой Давида был поднят через год после того, как Юнион Джек был спущен в Дели. Худшего времени нельзя было придумать. С точки зрения Азии и Африки Израиль шел вопреки истории. Все аргументы за его создание — в Европе. Арабская совесть не была ранена Холокостом, для арабов это чужая беда, они не склонны расплачиваться за грехи немцев. Было бы справедливее устроить новый Иерусалим в Берлине или Гамбурге. Вместо этого европейские колонизаторы вышвырнули свою проблему на Ближний Восток, к подножию мечети Омара (золотой купол ее бросается в глаза, когда подходишь к Стене плача).
Эта израильская заноза несомненно сыграла свою роль в том, что Арабский Восток, дремавший много веков, вдруг стал “пассионарным”, вошел в состояние полубезумия, начавшееся в России в 1917 году и с тех пор обошедшее Италию, Германию, Румынию, Кубу, Никарагуа, Китай, Вьетнам, Кампучию… Общая черта всех этих движений — неспособность вынести бúду, сыплющуюся из ящика Пандоры, ускорение истории, переворачивающее старые порядки и создающее хаос, которым пользуются спекулянты экономические и политические, торговцы светлым будущим. Возникает идея ликвидировать противоречия развития (по крайней мере, антагонистические, то есть особенно неприятные), вогнать мир в справедливую простоту, а группы населения, сопротивляющиеся порядку, ликвидировать как класс или физически уничтожить. В прошлом это приобретало характер погрома, резни. В XX в. погромщиков заменила партия масс, нашедших своего вождя и свою теорию, которая непобедима, потому что она верна (а на Арабском Востоке — еще благославлена Богом).
На этом историческом фоне традиционная мусульманская борьба с бид’ой, с новшествами, разрушавшими святой порядок, стала борьбой с Западом, с экспансией безостановочного динамизма. Экспансия Ислама в средние века, разрушившая Византию, вторгавшаяся в Индию, сменяла один твердый порядок другим, и это было (в глазах хранителей порядка) благом. Нынешняя же экспансия Запада сознается как поток бедствий. И так как Запад постепенно теряет свою жизненность, которую нельзя заменить техникой, наступил черед новых аль-Моравидов и аль-Мохадов. Подгнившая цивилизация сама открывает им ворота. Рождаемость падает, но не падает аппетит, и элоэ (как предвидел Г. Дж. Уэллс) сами приглашают морлоков, чтобы по-прежнему вертелись колеса фабрик. Между тем морлоки, почувствовав свою силу, становятся дерзкими. Кружит головы мечта о новом халифате, и неспособность к большой войне компенсируется глобальным террором. В нервной обстановке, созданной террором, возникает призрак бесконечно плодящихся иммигрантов, которые не ассимилируются и не интегрируются, а заливают Европу, как всемирный потоп.
Из этой фантастической картины выпадает Индия, выпадает Дальний Восток, стремительно наращивающий свою силу. Этот фактор почти не обсуждается. Говорят о тех, кто шумят. Но и здесь выпадает план Англии, Франции и Германии вступить в долговременный союз с Турцией, включить Турцию в Европейский союз и турецкий ислам, уже введенный в современное русло Кемалем Ататюрком, включить в европейский религиозный плюрализм. Что из этого выйдет? Новая Европа, символом которой станет общность аврамической традиции, плюрализм и толерантность? Или нечто вроде приглашения готов защищать Рим от чужаков?
Увеличат ли готы, то есть турки, рождаемость европеянок? И что на эту рождаемость давит? Эмансипация? Но эмансипированная Марина Цветаева родила троих детей. Эмансипированная Ольга Григорьевна Шатуновская, сыгравшая большую роль в расследовании убийства Кирова, родила троих (неудачными оказались только четвертые роды), перенесла потом сталинские застенки, Колыму, ссылку в Красноярский край, отчаянное сопротивление сталинистов всем ее начинаниям, истребление всех найденных ею документов и дожила почти до 90 лет. Природа дала женщине огромную силу. Прабабушка моей жены родила 22 детей. Если ограничиться тремя, остается достаточно сил для творческой работы. Но если цель жизни наслаждение, то достаточно одной крошки, чтобы испытать радость материнства. А больше не надо; семьи неустойчивы, и воспитывать ребенка, возможно, придется самой. Норвежские газеты “Афтенпостен” и “Дагбладет” опубликовали опрос женщин по этому вопросу и редакционную статью: “Дети крадут счастье” (мешают ходить в походы и т. п.).
Норвегия — одна из самых благополучных стран Запада. Рождаемость в Италии ниже. Происходит общий упадок. Постмодернистский, постхристианский Запад скользит в пропасть. В прошлом уже были примеры культур, отравленных гедонизмом. Обособленному индивиду незачем рожать (если это женщина), незачем трудиться, чтобы обеспечить семью, или защищать отечество (если это мужчина). Исчезает глубинное чувство любви, родственное религиозному чувству, исчезает идущий из глубины порыв запечатлеть в детях образ своей семьи, исчезает воля к жертвам для сохранения своего языка, своей культуры. Можно восстановить обязательную молитву, но от повторения застывших формул дети не родятся. И музыка, возрождающая волю к продолжению культуры, не пишется.
Меры, принимаемые государственными людьми, задерживают упадок, но не останавливают его. Чтобы удержать корабль на плаву, выбрасывается баласт. Европа перестает распространять просвещение. Мы все меньше слышим о правах личности в Курдистане. Европейские дипломаты повторяют арабские формулировки в споре с Израилем.
Ислам становится модой. Число неофитов во Франции и в Англии невелико, но среди них достаточно известные имена: Роже Гароди, Ив Бежар. Я слушал выступление Гароди на конференции в Ферми, я смотрел превосходный балет, поставленный Бежаром, в Риме. Судя по отрывочным сообщениям прессы, распространяется какой-то дистиллированный Ислам, очищенный от всего восточного. Правопорядки, очерченные в Медине и развитые каноническими школами права, оставлены в наследство ваххабитам. Ислам его европейских адептов — абстрактный монотеизм, не требующий никаких перемен в образе жизни, — только признание единого Бога и ежедневных молитв. По выражению одного из адептов, это дает “чувство душевного комфорта”. Еще одна форма комфорта. Трудно сказать, сыграет ли это роль фермента в формировании евроислама среди иммигрантов или этот процесс (о котором ниже) пойдет своим самостоятельным путем.
Однако вернемся к книге Орианы Фаллачи. Ее достоинство и ее недостаток — мышление взрывами, отсутствие системы, а следовательно, и белых ниток, сшивающих систему. Каждый взрыв сам по себе великолепен, особенно в характеристиках родной Италии. Европу Фаллачи знает, помнит ее истоки и сравнивает великое прошлое с жалким настоящим. Другое дело Восток. Все его характеристики однолинейны. Это впечатления журналиста, опрокинутые в прошлое и будущее. Ориана Фаллачи помнит имя Аверроэса, читала Омара Хайяма и любит сказки “Тысячи и одной ночи”. На этом ее востоковедческая эрудиция кончается. И она совершенно уверенно бросает свои репортажи об ужасах экстремизма в вихрь, образованный падающими башнями. Она не столько убеждает, сколько завораживает страстным стилем, напоминающим полемику поэтов — Бродского, Цветаевой. Между тем, если спокойно читать текст, неувязки бросаются в глаза. Например, Фаллачи не отмечает разницу между сохранением традиций (иногда гораздо более древних, чем Ислам) и возвращением к ним, ломая уже сложившийся уклад жизни. Она приписывает Исламу даже клитеротомию… Между тем этот акт входит в обряд инициации у многих племен, остающихся на уровне неолита, осуществлялся каменным ножом и возник за много тысяч лет до Ислама.
Очень старое наказание за воровство отсечением руки — явление, распространенное и на средневековом Западе, и на Дальнем Востоке. Гаремы владык были еще в Древнем Египте. Впоследствии они использовались для закрепления дипломатических соглашений и даже как живое штатное расписание. По индийским обычаям, царством правит раджа со своим родом. Если царство велико, то чиновник, назначенный на должность, посылает в гарем свою дочь или племянницу и таким образом устанавливается фиктивное родство. Численность гарема достигала до тысячи женщин, но ничего общего с борделем в этом не было. Ограниченная полигамия, введенная Мохаммедом (до четырех жен), была альтернативой убийства новорожденных девочек. В Китае и в Японии, где ислама не было, девочек продолжали убивать. Для людей среднего достатка завести даже вторую жену — дело непростое и часто предпринимается только ради потомства, если первая жена бесплодна. Ранние браки, заключаемые без желания молодых, — тоже всеобщее явление.
Ориана Фаллачи с сочувствием передает рассказ Бхутто, будущего премьер-министра Пакистана, как его, мальчика 13 лет, женили на тридцатилетней красавице. Он плакал, что не хочет жениться, но его не слушали. Он не понимал, что ему делать со взрослой женщиной после свадебного обряда, и зарыдал. Она тоже заплакала, и они проплакали всю ночь. После этой ночи Бхутто приложил все усилия, чтобы расстаться со своей супругой, и только несколько лет спустя ему стало жаль оставленную женщину, он посетил ее, но призрак первой брачной ночи вставал перед ним и лишал сил. А женщина так и осталась в одиночестве, связанная формальным браком. Все это печально, но не больше, чем брак, который князь Меншиков навязал Петру II, женив мальчика на своей взрослой дочери, влюбленной во взрослого поклонника. Чем это кончилось, можно созерцать на картине Сурикова в Третьяковской галерее. В простонародье женили, когда нужна была работница в семье: “Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне тринадцать лет”, — рассказывает няня своей барышне. Еврейские писатели, боровшиеся с патриархальными нравами, трогательно описывали, как мальчик, сгорая от стыда, лез под одеяло, где в углу ждала его скованная страхом девочка…
В старые времена были уродства, распространенные по всей земле. Что здесь общего с исламизмом, или мусульманским экстремизмом, или агрессивным фундаментализмом, как это сейчас называется, то есть с агрессивной встречной волной после неудач вестернизации, с рывком в утопию светлого прошлого, которого на самом деле никогда не было, после рывка в утопию светлого будущего? Можно показать, что ислам больше располагает к фундаментализму, чем к социализму (мы к этому еще вернемся), но культура ислама не сводится к тоталитарным уродам; так же как Россия не сводится к Сталину и Германия — к Гитлеру. Средневековый ислам был деспотическим, но не тоталитарным. Там творили великие поэты и мыслители. Там, несмотря на гонения, жил суфизм, утверждавший равенство великих религий, там возможен был такой парадоксальный факт, как победа пера над мечом — в истории Ирана, когда тюркский религиозно-племенной союз кизилбашей, завоевав страну, признал государственным языком фарси, поставив язык великих поэтов выше языка воинов-завоевателей, и независимость Ирана была завоевана без единого выигранного иранцами сражения.
Всего этого Ориана Фаллачи просто не знает. Но она противоречит себе и в области, которая ей превосходно известна, просто увлеченная своей риторикой. Так, список свобод Европы, который она с гордостью провозглашает, кончается свободой заниматься любовью где и когда угодно. Это звучит достаточно наивно, но через несколько страниц опровергается достаточно резкой оценкой современных западных нравов. Противоречия Ориану Фаллачи не смущают, они как-то сливаются, минуя логику, в художественной полноте образа современной Италии. А в ее восприятии Востока нет исторической глубины, ей не с чем сравнивать современные уродства, и все закрашивается густым черным цветом; все было всегда и будет всегда. Нет сдвигов, вызывающих сочувствие, оставляющих надежду на развитие. Сами формы семьи, сложившиеся на Востоке, рассматриваются как разврат — без Тадж-Махала, построенного мусульманским владыкой в память своей любви, без многочисленных переходов от любовной лирики в религиозную и от религиозной — в любовную и философскую в истории суфизма.
Общие оценки — слабое место в книге Орианы Фаллачи. Возможно, они завораживают по-итальянски, самим ритмом фразы, но в переводе отталкивают своей прямолинейностью: «Они всегда будут требовать, лезть в наши дела и распоряжаться нами. До тех пор, пока не подчинят нас себе. Следовательно, иметь с ними дело — невозможно. Попытка диалога с ними — немыслима. Проявлять по отношению к ним снисхождение и терпимость — губительно. И тот, кто думает обратное, — дурак» [с. 81].
Что из этого выйдет — открытый вопрос. Но картинки, нарисованные Фаллачи, достоверны. Отвратительна чернь, рукоплещущая лидерам исламизма. Другого ислама Фаллачи не видит, но описания того, что она видит, сделаны ярко, талантливо, и именно они обеспечили книге ее популярность (в Италии она разошлась в миллионе экземпляров).
«Огромная палатка, установленная мусульманами из Сомали… Сомали — страна, тесно связанная с Усамой бен Ладеном. Как ты помнишь, кроме того, это страна, где в 1993 году семнадцать морских пехотинцев-миротворцев были убиты, а над их трупами надругались. Мусульмане из Сомали установили эту палатку, чтобы выразить протест итальянскому правительству, в кои-то веки усомнившемуся: стоит ли продлевать их паспорта и разрешать въезд полчищам их родственников: матерей, отцов, братьев, сестер, дядьев, теток, двоюродных братьев и сестер, беременных жен, а следовательно, по цепочке, разрешать въезд родственникам их родственников. Палатка была разбита около архиепископского дворца, на тротуаре, где они по привычке выставляли ботинки, тапки и бутылки воды, которой они моют себе перед молитвой ноги. Итак, палатка была размещена прямо перед собором Санта Мария-дель-Фьоре и в нескольких шагах от Баптистерия. Она была меблирована, как квартира: столы, стулья, шезлонги, матрасы, чтобы спать и совокупляться, примусы, чтобы готовить еду и заполнять всю площадь гарью и вонью. И все нараспашку. Плюс электрическое освещение, плюс магнитофон, откуда шел голос муэдзина, взывающий к правоверным, попрекающий неверных, и этот голос оскорбительно заглушал прекрасный звон колоколов. В дополнение к общей картине желтые полосы мочи оскверняли тысячелетний мрамор Баптистерия, так же как и его золотые двери… Господи! Далеко же стреляют их струи, этих сынов Аллаха! Баптистерий обнесен решеткой, а они через решетку попадали на расстояние более двух метров. Желтые полосы мочи, зловоние экскрементов, перекрывающих вход в Сан Сальваторе-аль-Весково, изумительную романскую церковь IX века, прямо рядом с площадью, которую сыны Аллаха превратили в отхожее место, как и церкви Бейрута в 1982 году. Ты должен об этом знать.
Ты должен об этом знать, поскольку именно к тебе я взывала, чтобы выступить со страниц твоей газеты, помнишь? Я обратилась и к мэру Флоренции, который сразу же приехал ко мне, тихо перенес мою ярость и осторожно признал справедливость моих протестов: “Вы правы. Действительно правы”. Но он не убрал палатку. Забыл… лучше сказать, у него не хватило смелости. Я позвонила и министру иностранных дел, такому же, как я, флорентийцу, говорящему с сильнейшим флорентийским акцентом, обладающему властью разрешать или отказывать в продлении иностранных паспортов. Он тоже тихо перенес мою ярость. Он тоже согласился с тем, что мои протесты законны. “Вы правы. Вы действительно правы”. Но он не сделал ничего, чтобы убрать палатку. Как и мэр, он забыл. Или, лучше сказать, смелости не хватило и у него. Затем (по прошествии более трех месяцев) я переменила тактику. Я позвонила полицейскому, отвечавшему за безопасность города, и гаркнула в трубку: “Уважаемый полицейский, я не политик. Когда я обещаю что-то, я действительно делаю это. Если до завтрашнего дня вы не уберете чертову палатку, я сожгу ее. Клянусь честью, сожгу ее и даже полк солдат не сможет помешать мне. Можете меня за это арестовывать. Я хочу, чтобы на меня надели наручники, арестовали и заперли, арестовали! Так, чтобы газеты и телевидение сообщили, что Фаллачи была заключена в тюрьму в ее собственном городе за защиту ее собственного города. И вас всех забросают дерьмом”. Будучи умнее других, в течение нескольких дней полицейский убрал проклятую палатку. И все, что осталось на ее месте, — огромное и отвратительное пятно на тротуаре. Грязные следы ужасного бивака, простоявшего здесь три с половиной месяца. Но победа моя была жалкой, Пиррова победа, иначе сказать нельзя. Потому что сразу же после этого министр иностранных дел с сильнейшим флорентийским акцентом продлил паспорта сомалийцам и все их просьбы были приняты правительством. Сегодня и протестовавшие, и их отцы, их матери, их братья, их сестры, их дяди, их тети, их двоюродные братья и сестры, их беременные жены, которые тем временем разродились, — все они поселились там, где хотели поселиться. Я имею в виду во Флоренции и других городах Европы. Это была жалкая пиррова победа, потому что удаление палатки не повлияло на всевозможные надругательства, десятилетиями унижающие город, который некогда был столицей искусства, культуры, красоты. И еще потому, что этот инцидент не остановил других мусульман, вторгающихся в чужие владения. Не остановил албанцев, суданцев, бенгальцев, тунисцев, египтян, алжирцев, пакистанцев, нигерийцев, так горячо содействующих продаже наркотиков. (По-видимому, этот грех не осуждается Кораном.) И наши улицы, наши площади заполнили бродячие торговцы, продавцы поддельных часов или карандашей. Постоянные торговцы выставляют свой товар на ковриках, разложенных на тротуарах. Проститутки усердно занимаются своим ремеслом и распространяют СПИД даже на деревенских дорогах. Воры нападают на деревенские дома, особенно ночью, и боже вас упаси посметь встретить их с револьвером в руках, потому что в таком случае в тюрьму сядете именно вы. (Само собой разумеется, в придачу с обвинением в расизме.)» [с. 107—110].
Грубо, тенденциозно, но основная проблема поставлена: “итальянцы… как идиоты, не рожают”. Именно поэтому раздражает плодовитость иммигрантов: “они размножаются как крысы” (“крыс” после судебного разбирательства пришлось снять, теперь вежливее: они “размножаются в слишком большом количестве”). Но все равно, текст дышит ненавистью. А выход все-таки в диалоге. В диалоге с теми, кого Ориана Фаллачи не замечает, с трезво мыслящей частью современного мира Ислама. Это меньшинство сегодня политически незаметно, как в 1909 году были политически незначимы семь авторов «Вех». Тогда их осудили более 98% интеллигенции на более чем тысяче собраний, приславших в газеты свои резолюции. И все-таки правда оказалась на стороне Гершензона, Бердяева, Булгакова, Кистяновского, Струве, Франка, а не на стороне Ленина и Троцкого, Сталина и Берия, за которыми шли массы. Массы и сегодня не поймут Гершензона или Бердяева, но вынуждены признать их. И в Исламе будет признан Таха, повешенный как еретик в Судане.
* * *
В отличие от книги Фаллачи, работа известного норвежского культуролога П. Н. Воге «Ислам и современный мир» [5] не вызвала бурной читательской реакции. И это вполне объяснимо. Книга Воге рассчитана не на массовую аудиторию, а на глубокого, вдумчивого читателя.
Петер Норманн Воге, норвежский писатель и журналист, известный русскому читателю своими книгами о России, — тип универсального ученого. Его одновременно влечет к исследованию глубин человеческой психики и социальных процессов. Отсюда его увлеченность Достоевским и Соловьевым. Отсюда же интерес к взрыву активности в исламе. Кроме научной работы, Воге занимается журналистикой, он ведет постоянную колонку обозревателя на темы культуры и внешней политики в одной из крупнейших газет Норвегии — «Дагбладет».
Эта тема — диалог с трезвыми голосами — основная в книге П. Н. Воге. Если книга Фалаччи — это вопль о надвигающейся на Европу катастрофе, то в работе Воге «Ислам и современный мир», напротив, нет даже ощущения катастрофы. Воге цитирует высказывания мусульманских авторов, жестко критикующих постмодернистский западный мир, он признает, что Запад серьезно болен, но вместе с тем он уверен, что болезнь закончится выздоровлением, что выход из кризиса существует. У Запада, несомненно, есть проблемы, но они решаемы. И есть проблема стран ислама — встать на путь модернизации, как встала на него Турция Кемаля Ататюрка, отбросив юридические привески VII века к откровению, полученному Мохаммедом в ущелье Хира, и сохранив Ислам как духовный путь личности, отдавшей себя Богу. С этой точки зрения для Воге ближе всех в исламе Махмуд Махаммад Таха, повешенный в Судане как еретик в 1985 г., но оставивший учеников, развивающих его идеи. Воге убежден, что влияние ваххабизма на массы — не вечная черта Ислама, и ведет диалог с теми группами евромусульман, которые уже сегодня готовы к такому диалогу. В этих кругах книга Воге вызвала теплый отклик.
Приведем некоторые выдержки из книги.
«Необходимо начать с того, что мировая религия Ислам — это не только религия. Основы, на которых строится внешняя и духовная жизнь каждого мусульманина, заключены не только в откровениях Корана, но также и в сунне и хадисах, составляющих законодательную традицию. В них определены правила и нормы, касающиеся устройства государства, общества, а также отношений между людьми. В отличие от христианства в Исламе нет различия, во всяком случае теоретически, между царством кесаря и царством Божием. На первый взгляд, исходя из почвы, созданной на основе откровений Пророка, в Исламе нет достаточных условий для начала развития современного секулярного общества. Поэтому, пытаясь приблизиться к более глубокому пониманию ислама, мы всякий раз сталкиваемся с вопросами права. Ситуация крайне усложняется еще и тем, что большая часть эмигрировавших в Европу мусульман являются не только выходцами из бедных слоев населения, но и представителями общества, которое сегодня можно назвать предсовременным, сохранившим обычаи и традиции, которые в Европе либо давно исчезли, либо стали маргинальными, — пишет Воге. — Большая часть обычаев и представлений о формах поведения, порождающих трения между мусульманами и немусульманами на Западе, относятся не столько к исламу, сколько к культурному наследию стран, откуда приехали иммигранты.
Это касается, например, патриархальной структуры семьи и традиции заключения браков, следуя которым жениха или невесту выбирают из следующего поколения одного и того же рода или семьи, чтобы таким образом сплотить род, закрепить его право на землю и сохранить родовое имущество. Тем не менее мусульмане-эмигранты, а часто также их дети и внуки защищают этот жизненный уклад, ссылаясь при этом на религию. Для них их местные традиции и Ислам слились настолько, что их трудно разделить. Еще одна причина, осложняющая положение, это то, что мусульмане-эмигранты также подчинены общему закону эмиграции: чем более чуждой кажется им окружающая культура, тем сильнее укрепляют они свою собственную, сохраненную в поколениях и хорошо знакомую традицию. Вряд ли можно найти более “норвежских” норвежцев, чем среди эмигрантов в Америке. Реакция представителей местной культуры замыкает порочный круг: чем консервативнее и “сакральнее” кажутся окружающим мусульманские традиции и религиозные убеждения, тем скорее взгляды и поведение мусульман становятся причиной конфликтов и трений с секулярным обществом. Таким образом, — заключает Воге, — мы должны быть готовы к возможным будущим конфронтациям на Западе между живущими в обособленных гетто мусульманами, с патриархальным управлением и дискриминацией женщин, и остальным населением, живущим в свое удовольствие, но и в страхе перед тем, что зреет в мусульманских гетто, и перед угрозой ислама извне» [2, с. 12—13].
Далее Воге продолжает: “Мусульмане, во всяком случае в городах, заняты в основном в сфере услуг, не из-за своего вероисповедания, а потому, что большинство мусульман в Норвегии принадлежат к низшим слоям общества. Хотя следует отметить положительную тенденцию среди мусульманской молодежи, которая, особенно девушки, все выше поднимается по общественной лестнице. И тем не менее, до равенства между так называемыми “иностранцами”, которые чаще всего родились и выросли в Норвегии, и этническими норвежцами еще очень далеко. Вовсе не единичный случай, когда мусульманин, родившийся и выросший в Норвегии и имеющий высшее образование, должен подавать более ста заявлений, прежде чем его примут на работу. Наши мусульманские соотечественники имеют также печальный опыт при аренде жилья, потому что непривычные имена пугают хозяев квартир. Подобное обращение приводит не только к образованию мусульманских гетто, но вызывает у них чувство обиды и горечи, и это считают опасным также и в мусульманских обществах, так как может привести к “талибанизации” молодого поколения мусульман.
Воге отмечает, что “все террористические действия так или иначе связаны с конфликтом в Израиле, где возникла чудовищная традиция террористов-самоубийц; Бен Ладен и другие воинствующие мусульмане, объясняя причины своей “войны с Западом”, указывают на положение палестинцев. “Но конфликт в Израиле носит не столько религиозный, сколько в первую очередь национальный характер, — подчеркивает он. — Хотя в его основе заложена сионистская идея создания еврейского государства в Палестине, сионизм представляет собой одну из многочисленных попыток построения национального государства. При этом характерно требование, чтобы государственные границы соответствовали культурным, религиозным или этническим, независимо от того, на какой почве возникла идея национального государства. Национальное государство — явление современное. Если согласиться, что конфликт в Израиле является главной причиной возникновения терроризма, станет ясным, что этот конфликт не столько связан с религией, сколько с процессом модернизации, с одним из его вариантов. Как минимум одна из причин конфликта между исламом и Западом связана с тем, что я называю процессом модернизации, при котором построение национальных государств представляет собой лишь одно из множества явлений” [2, с. 17].
Все террористы — и те, что действуют на палестинских территориях, и те, что появились в Ираке, превращенном сегодня в военную зону, и те, что взрывают себя вместе с невинными жертвами в западных странах, — считают себя мучениками. Но с точки зрения теологии представления о том, в какой степени самоубийцу можно причислять к мученикам, в исламе очень расходятся. Одни указывают на полный запрет самоубийства Кораном и на классический закон в исламе, запрещающий убивать; другие говорят о джихаде — священной войне. Тем не менее, нельзя стать самоубийцей, исходя лишь из теологических обоснований, какими бы убедительными они ни были. Специалист по исламу Кари Фогт и писатель Андерс Хегер в книге “Разрыв” [4], исследуя происхождение террористов-самоубийц, отмечают: “Это люди, которые живут в мире, лишенном каких-либо знакомых для них связей. Им нет места в окружающем их новом обществе — оно не для них; все новое в своей основе представляется им как нечто несправедливое и враждебное. Эти люди наблюдают процесс модернизации, но не могут принимать в нем участия” [цит. по: 2, с. 20]… Тем не менее Фогт и Хегер подчеркивают, что одного лишь ощущения несправедливости и изолированности недостаточно; решающую роль здесь играет унижение, лишение достоинства: “Что бы ты ни предпринимал, ты никогда не встанешь на путь, который ведет к достойной жизни. Такая установка порождает в человеке чувство небытия, незначимости, в некотором смысле тебя не существует. Это отсутствие чувства жизни можно преодолеть, совершив какое-либо экстремальное действие. В своем крайнем проявлении чувство небытия, ощущение себя невидимкой, устраняются тем, что человек превращает себя в живую бомбу, он в самом буквальном смысле слова взрывается и тем самым становится невероятно заметным” [цит. по: 2, с. 20].
“Понятно, что такое состояние “наблюдения за процессом модернизации и невозможности принимать в нем участие” порождают обиду и ненависть, ведущие к сегрегации и “талибанизации”, возникновения которой среди мусульманской молодежи боятся не только в Израиле, но и в таких мирных странах как, например, Норвегия. Хотя среди мусульман практикуется ряд устаревших обычаев, это не повод для того, чтобы думать, что мусульмане не стремятся к модернизации. Поэтому важно суметь дать им шанс принимать участие в этом процессе. В противном случае будет расти то, что я называю реакцией на процесс модернизации, — фундаментализм”, — подчеркивает Воге [2, с. 20].
Террор имеет много сложных причин. Изоляция — одна из них, к ней относится и изоляция среди “своих”. Важнейшей причиной ненависти воинствующих мусульман к Западу, и особенно к США, является то, что Запад оказывает поддержку тоталитарным режимам в мусульманском мире.
Далее Воге пишет: “Джихад, или “священная война”, первоначально служил призывом к оборонительной войне для защиты dar al-islam (“Дом ислама”), основанного на пяти столпах веры, которому противопоставлен dar al-harab (“Дом войны”), то есть неисламские территории, где, с точки зрения мусульман, господствовали хаос, анархия и неверные. Ислам превращается в милитаристское движение, поскольку он встречает сопротивление не только со стороны Запада, но и внутри мусульманского мира. Исламские террористы, добиваясь мирового халифата, ведут борьбу как против Запада, так и против сегодняшних “декадентных” и “коррумпированных” лидеров в мусульманском мире. Саудовская Аравия, с казалось бы столь ортодоксальным мусульманским правительством, где женщинам до сих пор запрещено иметь водительские права, а за воровство в соответствии с шариатом отрубают руки, для “Аль-Каиды” представляет столь же серьезного врага, как и США” [2, с. 25].
Воге ссылается на слова известного востоковеда Албрехта Метцгера: “Фундаменталисты не отстают от современности. Это наиболее заметно по лидерам движений, которые, как правило, имеют высшее образование, живут в городах, имеют современные профессии (инженеры, юристы, журналисты). Исламисты, как они сами себя называют, стремятся к модернизации мусульманского общества, но одновременно хотят избежать отрицательных явлений модернизации, которые, по их мнению, породил Запад” [2, с. 25]. Метцгер цитирует Абдаллаха Аква, члена реформационной партии Йемена: “Одной из наших целей является повышение уровня развития общества до современных стандартов. Однако мы не считаем, что жизнь в эпоху высокого технологического развития должна включать ночные клубы и сексуальную свободу. Мы считаем, что расшатывание структуры семьи наносит ущерб обществу. Мои друзья в Германии жалуются на то, что там слишком много свобод. Мы хотим чистого общества. Нет сомнений в том, что развод, так же как проституция и наркотики, являются злом. Мы стремимся защитить общество от этого зла” [2, с. 26].
Отношение фундаменталистов к Западу и к современному миру, по мнению Воге, можно выразить так: “Мы хотим быть современными, но мы не хотим быть такими, как вы”. Он считает, что это относится как к умеренным, так и к воинствующим фундаменталистам, но подчеркивает, что в отличие от современных европейцев, с типичной для них неуверенностью, фундаменталисты уверены, что они хорошо знают, что является добром и истиной, а что злом и ложью — об этом они прочли в Коране или узнали от “знающих”. Когда такое убеждение в своей абсолютной правоте ведет к вооруженным или насильственным действиям против “зла”, возникает настоящая опасность. Тогда для борцов существуют лишь две силы: добрая, которую всегда представляют они сами, и злая, которую представляют “другие”. Такой черно-белый образ мира соблазняет и заражает, так как “другие” также будут использовать его, только в роли слуг добра они увидят себя. Если принимать образ мышления фундаменталистов, то обязательно проявится его “изнанка” в виде ответного фундаментализма у противника. Современные террористы оправдывают свою “оборонительную” войну тем, что Запад, или “Дом войны”, начал завоевывать “Дом ислама”, защитить который можно, лишь превратив в “Дом ислама” весь мир [2, с. 27].
“Братья-мусульмане” — организация, основанная в 1928 г. египетским учителем Хасаном ал-Банна. Первоначально это движение был создано для поддержки процесса модернизации в мусульманских странах, численность ее членов в арабском мире быстро росла. “Братья-мусульмане” строили школы и мечети, вели борьбу с неграмотностью и занимались благотворительностью. Как и многие похожие движения на Западе, они стремились нести народу просвещение. “Без улучшения условий жизни масс, мусульманское общество не может утвердиться” — вот один из лозунгов ал‑Банна. “Братья-мусульмане” вели обширную работу по улучшению условий жизни простых людей, опираясь на слова Корана: “Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними”. Возникло движение, которое должно было поддер-живать людей как духовно, так и материально. Кари Фогт и Андерс Хегер пишут: “Солдаты Аллаха, избравшие своим символом две скрещенные над Кораном сабли, стремились не к вооруженной революции, но к коллективному обращению как основе нового государства. Это вовсе не значило, что они хотели начинать с убийства лидеров государства. Создание исламского государства рассматривалось как требующий времени и труда проект, при котором мусульманский народ сам должен отвечать за свое сознание и свободу. Но это движение с помощью оружия было подавлено, а его основателя казнили в 1949 г. в возрасте 42 лет. “Братья-мусульмане” заложили основу большинства мусульманских террористических организаций, существующих сегодня” [цит. по: 2, с. 23—24].
Этот пример наглядно показывает, как стремление к модернизации, к тому, чтобы уровень развития мусульманского мира соответствовал современному уровню, перерождается в фундаменталистский террор, но мирной деятельности “Братьев-мусульман” препятствовал не Запад, а мусульманские деспотические лидеры. А. Метцгер пишет: “В общей сложности можно увидеть следующую закономерность: чем более репрессивный характер носит политическая система, внутри которой действуют исламские фундаменталисты, тем больше вероятность того, что для достижения своих целей они будут прибегать к насилию. И наоборот: чем более открыта и демократична политическая система, тем скорее фундаменталисты станут добиваться своего мирными средствами” [цит. по: 2, с. 25].
Изначальное стремление фундаменталистов к реформам и к утверждению ценностей, которые, по их мнению, являются основными ценностями Ислама, милитаризируется из-за сопротивления, которое они встречают на Западе, и угнетения, которое они испытывают в исламском мире.
С тех пор как у людей появилась письменность, вера в букву стала постоянным искушением. Как будто истину можно записать в книгу, и она останется неизменной для всех и на все времена. Склонность к такому мышлению особенно усиливается в смутное и нестабильное время. Уверенность в том, что путеводитель дан раз и навсегда, становится надежной крепостью, защищающей от страха неизвестности, от всего “нового”. А так как со времен Адама мир не переставал изменяться, то стремление сохранить однажды принятые и хорошо проверенные истины наблюдалось не только в сегодняшней встрече с так называемым современным миром.
Слово “фундаментализм” появилось в XVIII в. в США и использовалось для определения отдельных христианских сект. “Фундаментом” этих сект было Писание, которое служило источником вечных, неизменных истин, противостоящих всем современным дьявольским открытиям, таким, как историко-критическое рассмотрение библейских текстов и теория эволюции. Тот факт, что этот термин столь легко применим к мусульманским группировкам, представители которых ищут сегодня опоры в Коране и сами предпочитают называть себя “исламистами”, свидетельствует, что фундаментализм является своего рода религией, независимо от того, какие именно священные тексты используют фундаменталисты: иудейские, христианские или мусульманские. В любом случае они ссылаются на Книгу как на источник вечной истины и воспринимают текст так, как будто с тех пор, как он был написан, не проходило веков. Независимо от того, пытаются ли с помощью углубленного изучения законов Моисея управлять жизнью общества и его членов, ищут ли подтверждения истинности своих предрассудков в словах из Евангелия или считают указания Мохаммеда, данные в Медине в 622 г., за рецепт совершенного общества и в третьем тысячелетии, представление об индивиде и обществе во всех этих случаях противоположно тому, что требует современность. Фундаменталисты всех видов отстаивают веру в авторитеты вместо самопознания; догматику вместо научного анализа; вечные истины и предписания вместо понимания развития и динамичности общества и истории; фарисейство вместо демократии. Кроме того, их объединяет еще и то, что они дают простые ответы на сложные вопросы — ответы, которые делят мир на черное и белое и таким образом превращают его в поле боя, где сражаются со “злом” [цит. по: 2, с. 30].
Когда в 1996 г. вышла книга С. Хантингтона “Столкновение цивилизаций”, ее автора можно было принять за оратора, представляющего фундаменталистов всех лагерей. Тезисы Хантингтона, в которых он утверждает, что после «холодной войны» культуры могут только противостоять друг другу в политическом и военном отношении, что индивид не может принадлежать двум культурам одновременно и что задача Запада состоит в том, чтобы защитить свою культуру от “остальных”, нашли горячий отклик как среди некоторых западных политиков, так и среди мусульманских фундаменталистов. Ведь бен Ладен также видит свою задачу в том, чтобы защитить “Дом ислама” от разлагающего влияния других культур, пишет Воге.
Но ислам не сводится к фундаментализму. В Тунисе, столь же мусульманской стране, как Иран или Саудовская Аравия, приняли закон, разрешающий развод, что предоставило женщинам значительные права. По словам отдельных авторитетных мусульманских представителей, дискриминация женщин и патриархальное к ним отношение является чистым недоразумением. Мухаммед Саид Тантави, ректор Азхарского университета в Каире, подчеркивает, что стремление фанатиков запереть женщин в домах — это извращенное толкование Ислама. Требование запретить женщинам принимать участие в политической деятельности Тантави также считает антиисламским и, опираясь на цитаты из Корана, доказывает, что женщины имеют право заниматься политикой. В Испании после теракта 11 марта 2004 г. представители Совета Ислама не перестают объяснять, что Ислам — это не насилие, не фундаментализм и не антимодернизм, что Ислам вполне совместим с правами человека и секулярным государством. В статье “Ислам в контексте мирского государства” секретарь Совета Ислама Абденнур Прадо отмечает: “Мы писали об исламе в секулярном государстве, об Исламе и правах человека, мы подвергаем резкой критике насилие в семье, побивание камнями и дискриминацию женщин. Мы осуждаем наказание за выход из Ислама, так как оно противоречит свободе совести, данной Аллахом. Мы выступали в защиту секулярного государства, гарантирующего свободу вероисповедания, но признавая при этом, что Коран представляет важный жизненный аспект… Наш опыт как мусульман позволяет нам утверждать, что фундаменталистов нельзя считать мусульманами. Мохаммед говорил, что фанатизм — худший враг ислама. Без умеренности и равновесия не может быть ислама. Практика ислама является миротворческим опытом. Такова традиция, которой мы пытаемся следовать и которой следует большинство мусульман” [цит. по: 2, с. 35].
Тем не менее остается одна проблема: хотя во всех культурах и вероисповеданиях имеются черты фундаментализма, это не отменяет того, что ислам легче других религий может вести к вере в букву. Легкость, с какой Ислам в современном мире переходит в фундаментализм, ведущий к насилию, порождает вопрос: может быть, действительно в этой религии есть нечто, что делает ее особенно благоприятной для возникновения фундаментализма? Воге, по его словам, в своей книге пробует сделать лишь набросок возможного косвенного ответа.
Сложность современного Ислама и невозможность однозначных оценок Воге показывает на таком простом примере, как головной платок, введенный Хомейни вместо чадры. Для одних женщин это — символ их неравноправия, и они с отвращением отбрасывают платок, выехав на Запад. Для других — протест против сексуальной разнузданности Запада, и они, окончив европейский университет, демонстративно надевают платок, знак идентификации с Исламом.
За 25 лет после введения Хомейни закона о хиджабе платок из символа подчиненности женщины превратился в символ, подчеркивающий ее принадлежность к миру ислама, а не к остальному миру, все более подчиняющемуся власти Запада и его ценностям, связанным с индивидуальной свободой, коммерциализацией и секуляризацией. Иными словами, платок стал знаком того, что женщина, носящая его, не подчиняется Западу. В Египте среди женщин с университетским образованием платок вошел в моду. И все большее число образованных женщин надевают платок для того, чтобы подчеркнуть, что они не разделяют западных ценностей. Для большинства из них платок сигнализирует об их достоинстве, что они в отличие от их западных сестер не зациклены на сексе. Платок — это протест против того, что считают западным декадансом, и одновременно сигнал о том, что традиционные ценности, такие, как честь и уважение, должны быть сохранены в мире, несмотря ни на что.
“Если мы с этой точки зрения попытаемся взглянуть на запрет хиджаба во Франции (и возможно, в Германии), мы увидим, что этот запрет вызывает чувство обиды у мусульман и провоцирует агрессивность”, — отмечает Воге. “Снова один вид фундаментализма сталкивается с другим; вместо того, чтобы констатировать, что современный мир сложен и разнообразен, на Западе в очередной раз выбирают простые ответы на сложные вопросы. Не существует таких кодов в одежде, которые сигнализировали бы, что человек “свободен” и “самостоятелен”. Этого нельзя выразить через одежду. Главной причиной насилия над человеком, независимо от того, женщина это или мужчина, является лишение его возможности самостоятельно определять свою жизнь, утверждение, что кто-то лучше него знает, что надо делать, как себя вести и как поступать. И неважно, производят ли это насилие во имя ислама или во имя западных ценностей” [2, с. 44].
Ведя диалог с исламом, европейцам следует избегать реактивного мышления и использовать опыт реформаторов, опирающихся на Мохаммеда, против привычного толкования его идей, подчеркивает Воге. Он считает необходимым раскрыть внутреннюю логику реформ, проведенных самим основателем ислама, и обосновывать шаги к современности как продолжение начатого, а не ниспровержение его. Но при этом он разделяет позицию Рушди, который вскоре после теракта 11 сентября 2001 г. заявил: “Единственное, что интересует террористов в процессе модернизации, — это технологии, которые они рассматривают как оружие против ее изобретателей. Для того чтобы победить терроризм, мусульманский мир должен перейти к секулярным гуманистическим принципам, лежащим в основе модернизации. Без этого свобода в мусульманских странах останется неосуществимой мечтой… “Всем мусульманским обществам, стремящимся к модернизации, придется проглотить “горькое лекарство” — отделить религию от политики и причислить ее к сфере личного” [цит. по: 2, с. 38, 102]. В мусульманском мире уже существуют течения, движущиеся в этом направлении, но на Западе их почти не замечают.
Как и фундаменталисты, сегодняшние мусульманские реформаторы, пытающиеся отделить ислам от политики. Как и ориентирующиеся на политику фундаменталисты, эти реформаторы также являются “фундаменталистами”, в том смысле, что они обращаются к фундаменту, то есть к Корану. И это вполне объяснимо. Ведь Коран — основа ислама, и все реформы, независимо от их направления, должны опираться на Коран.
Естественно, что большинство реформаторских попыток носят скорее теоретический, нежели практический характер, отмечает Воге. Исключение составляет Турция, которая благодаря преобразованиям Кемаля Ататюрка из империи стала современным национальным государством, закрепившим законодательно разграничение сфер религии и политики.
Более мягкий путь предлагал реформатор Махмуд Таха, стремившийся заменить внешний ритуал внутренним знанием. Он искал путь от коллектива к личности. Таха по профессии инженер, всю жизнь он провел на родине в Судане, где в 1985 г. был казнен за ересь, ему было 76 лет. Его ученик, философ права Абдуллахи Ахмед ан-Наим, преподает в университете в Атланте (США). Оба они считают, что понятие шариата (кодекс законов и норм, основанных на Коране и частично на традиции, по которому управляется правовая, повседневная, личная жизнь в мусульманском обществе) нуждается в основательном пересмотре.
Таха и ан-Наим утверждают, что наиболее универсальными и емкими следует считать мекканские суры Корана, а мединские, возникшие в определенной исторической ситуации и соответствующие тому положению, в котором находился ислам как молодая религия, рассматривать как дополнение к ним. Они обращают внимание на то, что в Мекке Пророк получал откровения, в которых подчеркивается свобода вероисповедания и отсутствие принуждения к вере.
В своей книге “Другой завет ислама” Таха подчеркивал, что Коран — это книга откровений, в которой учитывается ценность отдельного человека. Он писал: “Каждый может развиваться благодаря благодати Аллаха и, следуя примеру Пророка, может стать личностью, отличной от толпы. Окончательным является не общественный закон, но скорее закон индивидуальный, так же как и первичным является не общество, но индивид. Просто люди, привыкшие жить в коллективе, настолько заражены инстинктом толпы, что не могут думать иначе. Люди удивляются и пугаются, когда с ними говорят об индивидуальном законе. Другая причина такой реакции, это то, что индивидуальный закон требует определенной степени зрелости и сознания ответственности, в то время как люди остаются детьми, желающими, чтобы их ответственность брал на себя кто-то другой, чтобы таким образом избавиться от нее” [цит. по: 2, с. 107—108].
Аргументы, выдвигаемые Махмудом Таха в пользу реформации шариата, основаны на убеждении, что все люди способны достичь уровня Пророка, то есть он считал, что законодательная власть в некотором смысле находится в отдельном человеке. Тем не менее следует подчеркнуть, что и Таха, и Ахмед ан-Наим уточняют, что в основе реформ шариата должны лежать откровения Корана, а это значит, что “гуманизацию” можно распространить настолько, насколько позволяют слова Пророка.
Ан-Наим подчеркивает, что, если бы мусульмане имели выбор только между секуляризацией и шариатом, большинство встало бы на сторону верных букве. Поэтому необходимо разрабатывать альтернативы, при которых принимается во внимание центральная роль шариата. Возможно, это путь историзации шариата. Ан-Наим говорит: “Если бы можно было конкретно показать, на чем основывали шариат первые исламские юристы, для которых главным источником закона служили Коран и Сунна (традиции), то сегодняшние мусульмане легче бы соглашались на реформы. Исламский закон, как мы его знаем, это не нечто богоданное и абсолютное, а результат длительного исторического процесса толкований и логических заключений, основанных на Коране и Сунне. Следующая задача — показать, каким образом, опираясь на Коран и используя иные методы толкования, можно дать обоснования прав человека” [цит. по: 2, с. 109]. Ан-Наим уверен в том, что и мусульманское общество должно основываться на таких правах человек, как равенство перед законом, свобода слова и свобода вероисповедания.
В этом же направлении развивается “евроислам”. Анна София Роальд — норвежка, принявшая ислам, являющаяся одним из лидеров мусульманского женского движения, настаивает на необходимости отличать намерения Пророка в Коране от того культурного выражения, которое они приобрели в Аравии в VII в. Например, разрешая иметь четырех жен, Пророк делал первый шаг в направлении обеспечения прав женщин, так как не только ограничил многоженство, но и ввел право на материальную поддержку для незамужних женщин, число которых из-за войны превышало число мужчин и которым угрожал голод. То же самое можно сказать и о постановлениях, где свидетельство двух женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины, а также о праве женщины на половину наследства мужчины. До этого свидетельство женщин не учитывалось вообще и они не имели права наследовать собственность. Когда Мохаммед в своей прощальной речи подчеркивал, что к рабам надо относиться так же, как к свободным, это был шаг в сторону уничтожения рабства. Другими словами, Роальд считает, что если ислам снимет свой архаико-бедуинский наряд, то религия вполне может быть совместима с порядком, в котором уважаются права человека.
Роальд считает очень важным, чтобы в Исламе акцент был перенесен с коллектива на индивида, чему, по ее мнению, способствует так называемая “встреча с современным миром”. В статье, опубликованной в норвежском издании газеты Amnesty International от 10 апреля 2004 г., она пишет об Исламе: “Для традиционных школ права характерно коллективистское мышление. Идея о правах индивида получила более заметное место в сознании мусульман после их встречи с новыми культурными структурами в связи с миграцией и глобальным характером СМИ. В современных дебатах среди евромусульман все явственнее проявляется готовность к новым толкованиям Корана и хадисов, а также склонность приписывать индивиду центральную роль. Хотя эта тенденция еще не окончательно утвердилась, она может сыграть важную роль в будущем, особенно когда мусульмане второго и третьего поколений, прошедшие через западную систему образования, где правам человека отдается приоритет, будут пытаться найти решения, позволяющие практиковать Ислам в западном обществе” [цит. по: 2, с. 112].
Другой “евромусульманин”, также возлагающий надежды на растущие поколения, — египтянин, живущий в Швейцарии, Тарик Рамадан, внук основателя общества “Братья-мусульмане” Хассана ал-Банны — движения, на которое указывает и Роальд как на один из примеров нового истолкования Корана. Рамадан является профессором философии и исламоведения в Женевском колледже, а также в университете в Фрибуре (Швейцария). Он автор книги “Европейский мусульманин” (1998). В том же году он опубликовал статью в “Монд дипломатик” (Monde diplomatique), где рассказывает о том, как новые поколения мусульман в Европе создают свою собственную культуру, в которой они одновременно ощущают себя и мусульманами, и европейцами. Он подчеркивает, что мусульмане, если они хотят жить в Европе, должны быть способны соответствовать определенным требованиям. Они должны сознавать себя гражданами общества и, заключив общественный и нравственный договор со страной, в которой проживают, признавать и уважать существующие в ней законы. Рамадан пишет: “Старые определения “Дома войны” и “Дома мира”, которых нет в Коране и которые не являются частью откровений Пророка, устарели” [цит. по: 2, с. 114]. Вместо них Рамадан предлагает ввести понятие dar ash-shahada — “Дом клятвы”, так как оно может содействовать укоренению мусульман в Европе. Оно включает в себя как мусульманский символ веры, так и гражданскую обязанность подчинения общественным законам.
У Тарика Рамадана есть ряд сторонников. В Дании группа молодых мусульман изучает и развивает его идеи на своем сайте в Интернете под названием “Форум критически настроенных мусульман”. Они с увлечением решают вопрос разделения религии и политики, процесса, получившего название “религиозная секуляризация ислама”, выступают за общие права человека, права женщин, установленных, по их мнению, Кораном, и за общую терпимость: “Мы хотим устранить предрассудки с помощью знания и открытости. Мусульмане в Европе должны не только терпеть, но принять плюрализм и секуляризированное общество, для которого характерна терпимость к людям с различными религиозными и политическими убеждениями. Чистый и бескомпромиссный ислам невозможен ни в Европе, ни в каком-либо другом месте. Компромисс не только нельзя отбросить, он совместим с исламом. Но терпимость не распространяется на тоталитарные взгляды” [цит. по: 2, с. 114].
Как мы видим, критика датских мусульман направлена не столько на западное общество, сколько на мусульманские группировки. Еще один “евромусульманин” — сириец, профессор международной политики Геттингенского университета (Германия) Бессам Тиби. Тиби критикует исламистов за смешение терпимости с декадентством и европейцев — за смешение терпимости с равнодушием. “В Европе есть место только для евроислама!” — так названо интервью с ним в газете Tendenzen. Журналист, берущий интервью, характеризует европейское общество как декадентское, что часто можно слышать и от мусульман. В ответ Тиби говорит, что, вероятно, журналист беседовал с кем-то из исламистов, и объясняет, что исламисты не в состоянии понять, что такое терпимость, для этого их мышление слишком узко. Поэтому терпимость истолковывается ими как декадентство. Одновременно европейцы впадают в противоположную крайность: боясь сойти за зацикленных на Европе, они отказываются от собственной идентичности и поклоняются всему неевропейскому. Он добавляет: “То, что отдельные группировки внутри Европы понимают под терпимостью — а я сам отстаиваю терпимость — не что иное, как равнодушное отношение ко всему! Они думают, что будут признаны другой стороной. Но такой отказ от себя, вплоть до отказа от культурной идентичности, никем не ценится, и по праву. Тот, кто подобным образом относится к своим корням, нормам и культуре, ничего не может предложить другим, так как такой человек потерял свою идентичность и его воспринимают как “декадента”. Терпимость, между тем, не означает отказ от своей культуры. Терпимость означает принятие демократических правил игры на основе взаимного признания… Терпимость не означает, что “все одинаково пригодно”. В ответ на то, что Тиби называет мусульманским “чувством призвания”, заложенным в основу очень многих политических норм и форм поведения в исламе, начиная от хиджаба, школ Корана и заканчивая презрительным отношением к Западу, Тиби говорит о “европейском долге”, то есть он хочет предоставить европейским мусульманам живое доказательство значения наследия эпохи Просвещения. Задача европейцев состоит в том, чтобы показать мусульманам, что означают идеалы свободы, равенства и братства, а также что права человека касаются как мужчин, так и женщин” [цит. по: 2, с. 115].
Итак, Запад может научить мусульман уважать права личности. Но и мусульмане, в свою очередь, могут многому научить народы Запада, и прежде всего: относиться к собственным принципам с такой же серьезностью, с какой мусульмане относятся к своим принципам, в том числе и “фундаменталисты”, те из них, кто обращаются к “фундаменту” в поисках нового толкования Корана, а значит, возможности новых путей в будущем. Этим занимались пионеры реформации на Западе, что вызвало такие же волнения в Европе, которые сегодня мы наблюдаем в мусульманском мире, пишет Воге [цит. по: 2, с. 115—116].
Те черты христианства, которые облегчили путь Европы к современности, сказались и в погружении Запада в современный духовный кризис. “Когда Бог становится человеком, Сыном, появляется возможность снятия того напряжения, на котором основана всякая религия — напряжения и противоречия между Богом и человеком. Становясь человеком, Бог приносит себя в жертву за мир; этим закладывается основа мировоззрения, позволяющего смотреть на мир с тем же благоговением и интересом, как и на Бога; человек рассматривается как богоподобный или как “соработник Бога”, по словам Павла. В некотором роде Христос представляет собой оскорбление религиозного сознания как такового, это проходит через весь Новый Завет. Христос постоянно снимает границу между священным и профаническим, которую провела иудейская религия закона. Даже еда не делится больше на чистую и нечистую: чистота и нечистота становятся внутренними качествами, а не внешними постановлениями: “не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека” (от Матф., 15, 11)… Он указывает на бессилие внешнего закона и превосходство внутреннего: “И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы” (от Марка, 2, 27) (с. 87—88).
Христос не отменил ни одного из законов, установленных Моисеем, но открыто нарушал их, когда считал нужным. Он сходил с рельс и не терпел крушения. Он шествовал по водам и не тонул. Он знал, когда принцип несет в себе истину и когда, доведенный до абсурда, несет в себе ложь. Как это было знать его последователям?
Апостол Павел нашел слова, чтобы оправдать Христа: “буква мертва, только дух животворит”. Но для верующих Павел установил правила, такие же твердые, как те, которые отменил. Христиане, пошедшие за Павлом, позволили просто повернуть стрелку и направить поезд церкви с одной колеи на другую. Не все, однако, могли с этим согласиться. Не для всех авторитет Павла был достаточно высок, чтобы исправлять писание, священное для Христа. Многие апостолы и, быть может, большинство иудеев-христиан продолжали молиться в синагогах и почитать субботу. Даже в наши дни возникают христианские секты, отказывающиеся принять узурпацию Павла. Такие же расколы вызывало каждое новое решение церкви отступать от Ветхого завета.
Отказ от заповеди “не сотвори себе кумира” — уступка религиозным привычкам народов Средиземноморья — вызвал две мощные волны иконоборчества там, где этих привычек не было. Вторая волна, на Севере Европы, совпала с началом книгопечатанья. Библия de facto попала в руки любого мирянина. Открылась свобода толкования. Началось движение от свободы Христа — господина Субботы — к свободе мысли каждого христианина и (после кошмаров религиозных войн) к секуляризации. Оба эти процесса на первых порах вели к усовершенствованиям нравов, но сегодня они вышли за незримые рамки, подсказанные духом культуры как целого.
Культура может быть описана как клубок принципов, уравновешивающих друг друга. Вырвавшись из клубка, любой принцип неудержимо движется к распуханию в своего рода злокачественную опухоль (именно этот процесс известен здравому смыслу как “доведение до абсурда”). В наши дни свободный доступ к наркотикам, к порнографии, свобода однополых браков и другие подобные свободы поставили христианский мир на грань физического вымирания. Секуляризм проник внутрь религии и привел к полной бездуховности. Перед вызовом смерти архаичность ислама дает ему силу, а прогрессивность Запада оборачивается слабостью. И факты перехода отдельных христиан в ислам, хотя и немногочисленные, важны как знаки исторического перелома.
В главе “Религия религий” Воге пишет: “В Исламе Бога рассматривают не как историю и не сквозь философские очки: для Пророка и его последователей в вере, которая называется “предание себя Богу”, Бог прежде всего Бог. Ислам в некотором смысле является религией религий. Бог в исламе вне времени и пространства, но, как и в натуральных религиях, Он вездесущ. “Мы ближе к нему, чем шейная артерия”, — говорится в Суре 50, 15. Человек рождается во внешний мир, но этот мир создан Богом, в нем везде виден Его “след”. Для мусульман, как подчеркивает Асад, нет разницы между буднями и праздниками, работой и молитвой, все с одинаковой радостью свидетельствует о Боге. Несмотря на такое отсутствие дуализма, нестоящая связь между Богом и человеком заключена в раз и навсегда данном откровении. Мир — это Божий след, но ничто в нем не обладает божественной силой, в том числе и человек. Поэтому Мухаммед призывает использовать разум как инструмент для изучения мира и слов Корана. Тем не менее напрашивающуюся мысль о том, что, если доверять собственному разуму, можно поставить под сомнение слова откровения и даже сменить веру или стать “отступником”, Мухаммед отвергает. Человеку уже дано просвещение и всякое уклонение от истины откровения становится дьявольским искушением и знаком отступления человека от Бога, превращением его в противника Слова Божия. Поэтому задачей человека является исполнение и реализация воли Бога так, как она выражена в Коране. Бог открывает себя везде; чтобы стать чистым сосудом для Бога и Его воли, необходимо следить за собой и воспитывать других. Мусульманин везде в мире видит свидетельство о Боге, и что бы он или она ни делали, их действия должны следовать Ему. Ислам вездесущ.
В исламе человек должен быть покорным Богу — верующему полагается молиться пять раз в день, повернувшись в сторону Каабы, чтобы почтить величие Бога и для напоминания о собственной малости. Асад так объясняет значение молитвы мусульманина: “Мы поворачиваемся к Каабе — святилищу Бога в Мекке, зная, что все мусульмане, где бы они ни находились, на молитве поворачиваются к ней лицом. Мы составляем как бы единое тело, и наши мысли сконцентрированы на Нем. Сначала мы читаем из Корана стоя, напоминая себе Его слова, данные людям, чтобы они могли стать праведными и твердыми в жизни. Затем произносим слова: “Бог велик”, напоминая себе, что ничто не достойно поклонения, кроме Него. Мы низко кланяемся, потому что чтим Его выше всех, ценим Его власть и честь. Затем мы касаемся лбом земли, в знак того, что являемся лишь прахом перед Ним, а Он — наш небесный Создатель. Мы поднимаем голову, оставаясь на коленях, молимся о прощении грехов, просим о ниспослании нам благодати, о наставлении нас на верный путь, о здоровье и средствах к жизни. Затем мы снова касаемся лбом земли, в знак власти Единого. Затем молимся о благословении Пророка Мухаммеда, передавшего нам Его заветы, как Он благословлял прежних пророков. Молимся о благословении всех, кто следует прямым путем, просим о ниспослании благ этого и будущего миров. В заключение мы поворачиваем голову налево и направо, произнося следующие слова: Да будет с тобой мир и благословение Аллаха, приветствуя таким образом всех верующих, где бы они ни находились”.
Если не учитывать символических обращений мусульман к Каабе и Пророку — обращения, которые мы в перспективе этой главы должны определить как частные, — мы находим здесь в чистой и возвышенной форме выражение религиозного чувства к Богу, совпадающего с чувством любых других верующих людей. Любая подлинная религиозность подразумевает “предание себя Богу” как условие и следствие, и с психологической точки зрения получается, что все уважающие себя носители религиозного сознания являются “мусульманами” (с. 93—94). Таким образом, разговор с исламом сверху вниз, акцентируя явно устаревшие предписания VII в., упускает из виду то, что делает ислам одной из великих мировых религий и объясняет переход в ислам. Диалог с исламом должен вестись на равных. С этим выводом П. Н. Воге можно согласиться. Сомнение вызывает только его попытка очертить отдаленные перспективы ислама.
Вопрос этот настолько сложен, что Воге пытается упростить его и сделать зримой основную тенденцию с помощью метонимии — сопоставляя не две цивилизации, а два календаря. Мусульманское летосчисление действительно на шестьсот лет моложе христианского и мусульмане сейчас живут в XIV в. Но это не значит, что они находятся где-то между Данте и Джотто и впереди — Леонардо да Винчи. Метонимия имела бы эвристическую ценность, если бы все цивилизации развивались по одному шаблону. Но этого нет. В иудеохристианской цивилизации Ветхий завет (завет с народом) предшествовал Новому (завету с личностью). Примерно такой же порядок развития в Индии — от законов Ману к Бенаресской проповеди Будды, от упора на семью — к освобожденной от кастового и семейного долга личности, если данная личность избирает духовный путь (враги человеку — домашние его; не человек для субботы, а суббота для человека). В исламе порядок обратный: в Мекке Мохаммед (видимо, не без влияния христианства) обращается к отдельному человеку со словами веры и любви, в Медине он дает законы новому государству.
Это были хорошие законы для раннего средневековья, и в мире ислама было больше порядка, чем в средневековой Европе, раздираемой феодальными войнами и соперничеством пап и императоров. Но именно из хаоса родилась новая звезда — вольные города, в которых сложилась культура нового времени. Ислам, лидировавший до XV в., вдруг оказался на обочине истории. Торговые пути пролегли по океанам. Ислам обнищал и погрузился в сон. Мусульманские государства одно за другим попадали под контроль морских держав или шаг за шагом отступали перед ними. Османская империя теряла провинцию за провинцией и в конце концов распалась. И тогда на развалинах империи родилась новая Турция.
Каким образом Кемаль-паше удалось превратить Турцию в нацию нового времени? Как почти без сопротивления была отброшена “ветхозаветная” часть ислама, вся юридическая и политическая постройка, созданная в VII в. и не годившаяся в XX в.? Помогло обстоятельство, которого сегодня нет: Европа еще не была расшатана быстрым разрушением старых святынь и медленным рождением новых. Превосходство Европы казалось бесспорным. К тому же помогли политические козыри, которые Кемаль-паша накопил. Он заключил выгодное для Турции соглашение с Лениным, давшее возможность игнорировать решения держав Антанты, казавшихся всесильными, разгромить армянскую армию, подавить движение курдов за независимость и, наконец, сбросить в море греческие войска, вторгшиеся в Анатолию, а греков, живших в Малой Азии три тысячи лет, выселить как нежелательных иностранцев. В мире ислама победитель становился халифом. Кемаль с харизмой халифа лишил ислам права вмешиваться в светские дела и ввел европейские правовые порядки.
Ни у одного арабского лидера таких козырей нет. Насер мечтал сбросить израильтян в море, но это ему не удалось. Остались только мечта о победе и идея, что без этой победы, без уничтожения Израиля реформы невозможны. Бессильная ярость палестинцев, а затем и других народов, почувствовавших себя в историческом тупике, вылилась в волны террора и в надежду, что многодетные жены гастарбайтеров в конце концов заселят Европу и откроют дорогу новому халифату.
Таким образом, одновременно развиваются два кризиса. Кризис Европы выражается в том числе и в упадке рождаемости. Кризис ислама порождает глобальный террор. Как эти два кризиса будут взаимодействовать, никто не знает. Исторические аналогии не помогают. Такой ситуации раньше не было. Чем закончится кризис постхристианства? Его обновлением или полным крахом? Как будет происходить интеграция мусульман в Европе? Втянутся ли они в традиции Европы, как в России — казанские татары, или здесь будут нарастать этнические и религиозные конфликты? Эти вопросы остаются открытыми.
Waage, P. N. Islam und die moderne welt. — Oslo, 2004. 141 S. Assad С. 49–50.
Григорий ПОМЕРАНЦ
Статья опубликована в ежегодном научно-богословском сборнике «Рамазановские чтения», Нижний Новгород, № 2, 2007.
13.03.2008
Ссылки по теме:
13-03-08 Великому мыслителю наших дней Григорию Померанцу – 90 лет
Персональный сайт Г.С.Померанца и З.Г.Миркиной:
Григорий Померанц — БОГОСЛОВСКО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ В ДИАЛОГЕ С ИСЛАМОМ
Григорий Померанц — «...Истина диалога выше истины каждой отдельной реплики...»
Сухейль Фарах — К разумному диалогу между православным и исламским мирами
Мусульманская умма России в межконфессиональном диалоге






 RSS
RSS