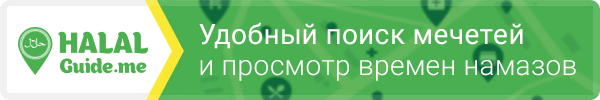Ислам, мусульманское общественное движение и проблемы управления мусульманским населением внутренних губерний России в начале ХХ в. в ракурсе российской административной элиты
15.05.2008 17:39И. Л. Алексеев,
к. и. н, ст. преп. РГГУ (Москва)
Вопрос об отношении русского общества и государственной власти к социально-политической активности российских мусульман представляет собой проблему, не вполне хорошо изученную историками. В отличие от русской политической элиты, действовавшей в рамках псевдотрадиционалистского политического дискурса, мусульманские интеллектуалы, и, прежде всего И. Гаспринский, готовы были предложить альтернативную концептуальную модель, в основу которой было положено представление о неразрывности исторических судеб России и исламского мира, частью которого являются российские мусульмане. Исследование программных документов и выступлений мусульманских лидеров начала ХХ в. демонстрирует на редкость последовательно выражаемую лояльность общегосударственным интересам, доходящую временами до явного русофильства. Вместе с тем, реакция русской политической элиты, как консервативной, так и в известной степени либеральной ее части не менее последовательно демонстрирует политическую исламофобию.
Уже сам факт политизации российского ислама вызывает опасение не только у миссионеров, но и у представителей власти. В фондах Департамента духовных дел иностранных исповеданий[1] и Департамента полиции Министерства внутренних дел[2] содержится большое количество документов, иллюстрирующих характер и специфику разработки мусульманской проблематики органами государственной власти Российской империи.
Основной проблемой, находившейся в центре внимания МВД, была борьба с так называемым панисламизмом. В директивном письме по Особому отделу Департамента полиции за подписью директора Зуева панисламизм определяется следующим образом: «Главный принцип, вокруг которого сосредотачивается панисламистское движение... – это объединение всего мусульманского мира в политическом и экономическом отношениях под эгидой Турции с конечной целью в будущем образования всетюркской республики...».[3] Уже в этой краткой цитате можно заметить смешение понятий: панисламизм, по определению, должен ставить задачу объединения не тюрок, а мусульман. Кроме того, известно, что панисламисты ставили своей целью объединение мусульман не в республику, а в халифат, под властью турецкого султана-халифа. Здесь же указывается, что «строго определенной программы и тактики панисламисты не выработали. Ближайшая задача их — сплочение всех сознательных мусульман для политической борьбы с ныне существующим в империи государственным строем, который является в глазах панисламистов главной препоной к национальному самоопределению магометан»[4].
Анализируя состав «панисламистского» движения, автор документа отмечает, что «панисламисты распадаются на две фракции, часто враждующие между собой; одна из них <...> по своим политическим воззрениям мало отличается от конституционно-демократической партии; другая же крайне малочисленная (младотатары) и состоящая, главным образом, из молодежи <...> придерживается программы и тактики социалистов-революционеров»[5]. Особое беспокойство властей вызывали мусульманские новометодные школы, выступавшие главными очагами распространения новых социальных и культурных идей и превратившиеся в начале ХХ в. в крупнейшие центры общественной активности мусульман. По мнению автора рассматриваемого документа, «школы эти подготавливают кадры будущих проповедников панисламизма, всемерно вселяя в них через “мугаллимов” (учителей) ненависть и презрение ко всему русскому»[6]. Основными средствами распространения «панисламистских» идей были литература и печать[7]. Причем главным органом панисламизма считалась наиболее умеренная из мусульманских газет того времени «Тарджуман», издаваемая И. Гаспринским[8].
Вывод, к которому приходит автор данного документа, определяется, собственно говоря, изначальной посылкой: «панисламизм, как мусульманское движение, направленное, прежде всего, против существующего государственного строя в Империи, представляет собою явление, на которое розыскными органами должно быть обращено особое внимание»[9]. Это внимание должно было состоять в следующем: приобретение секретной агентуры «для освещения преступной деятельности панисламистов и их революционных организаций в целях своевременного пресечения таковой»; отслеживание настроений мусульманского населения, «обратив при этом особое внимание на деятельность, как педагогического персонала школ, так и магометанских духовных лиц»; отслеживание деятельности мусульманских издательств, «своевременно представляя в Департамент (полиции – И. А.) наиболее заслуживающие внимания статьи»[10].
Наиболее полное отражение государственная политика по отношению к исламу и мусульманам в начале ХХ в. нашла в материалах Особого совещания для противодействия татарско-мусульманскому влиянию в Приволжском крае при Министерстве внутренних дел.[11] Это Совещание было созвано в 1910 г. по инициативе главы правительства и министра внутренних дел (в 1906–1911 гг.) П.А. Столыпина, который рассматривал ислам как «особо грозную» опасность для империи[12].
Меры, которые предполагало принять Особое совещание, подробно раскрыты в записке товарища министра внутренних дел и ближайшего соратника Столыпина, А.А. Макарова, адресованной управляющему делами Совета министров в 1910–1914 гг. Н. В. Плеве[13].
Как отмечает А. А. Макаров, «за последние десятилетия во всем мусульманском мире наблюдается чрезвычайный подъем религиозного и национально-культурного самосознания. Движение это проявилось и в России и особенно живой отклик встретило в среде приволжско-камских татар, которым, в силу особых исторических и географических условий, принадлежит культурное преобладание среди исповедующих ислам разноплеменных инородцев, населяющих Империю»[14]. Реальные последствия этого движения, как указывает Макаров, сказались «в массовых отпадениях крещеных инородцев (частью тюркского, частью финского происхождения) в мусульманство, в усилившейся пропаганде ислама среди слабых в вере принявших православие инородцев Поволжья и среди полуязыческих племен северо-восточной России, в постепенном сосредоточении духовного и культурного просвещения мусульман восточных и среднеазиатских областей в руках татарского или прошедшего татарскую школу духовенства, в развитии под видом допущенных законом мусульманских конфессиональных школ общеобразовательных учебных заведений со специфически татарским оттенком, в возникновении целого ряда мусульманско-татарских духовно и культурно-просветительных и благотворительных учреждений, книгоиздательств, периодических изданий и тому подобных начинаний»[15]. Эти начинания, по мнению автора документа, имели прямым назначением «проводить в широкие слои народных масс начала татарско-мусульманской культуры, в явно недоброжелательных, а часто и открыто враждебных выступлениях татарской интеллигенции и татарской печати против нашей государственности и русской народности и... в нескрываемом тяготении к зарубежному мусульманству»[16].
Совещанием было названо несколько причин, способствовавших развитию мусульманского движения, среди которых «сравнительная духовная и культурная слабость русского населения тех местностей, которые густо населены мусульманами; недостаточная до последнего времени осведомленность Правительства относительно внутренней эволюции русского мусульманского мира и, наконец, самая система государственно-правового устройства мусульманства в России и, в частности, постановка учебного дела в мусульманских школах»[17].
В соответствии с этим Совещание наметило три категории мер: духовно-просветительные (укрепление положения православной церкви в области ее государственно-культурной деятельности), культурно-просветительные (организация школьного дела) и меры административные (упорядочение государственно-правового положения мусульман и усиление правительственного контроля за его проявлениями)[18].
Среди мероприятий первой категории, предполагалось «предоставить денежную поддержку существующим в приволжских губерниях со смешанным мусульманско-инородческим населением организациям, преследующим цели духовно-просветительные и миссионерские, учредить на миссионерском отделении Казанской духовной академии кафедры местных инородческих наречий; ввести, в качестве обязательного предмета, те же языки в программу духовных семинарий в епархиях с мусульманским населением; допустить прием на миссионерское отделение названной академии также окончивших курс в семинариях по второму разряду, а равно и лиц, окончивших общеобразовательные учебные заведения, по поверочному испытанию, установленному для студентов семинарии, с тем, чтобы окончившие курс в академии по означенному отделению имели преимущественное право на занятие в местностях с инородческим населением, кроме должностей священнослужителей и миссионеров, должностей преподавателей в духовных семинариях в местностях с мусульманским населением, а равным образом, по приобретении ими педагогического опыта, и должностей по учебному ведомству; назначить пособие Казанским миссионерским курсам на устройство соответственного помещения, обеспечив эти курсы достаточным содержанием».[19]
Совещание также высказалось о целесообразности ознакомления учащихся церковно-учительских школ в местностях с мусульманским населением на уроках закона Божия с началами мусульманского вероучения, «с освещением их в духе христианских любви и мира», и за издание краткого очерка мусульманства и обличительного катехизиса мусульманского вероучения. Особое совещание признало также необходимым, в интересах культурно-религиозного воздействия путем печати на инородческое население, издание при Казанской духовной академии народного религиозно-просветительного органа в духе православной церкви. Кроме того, Совещание высказалось за то, чтобы в восточных епархиях с мусульманским и переселенческим населением викарные епископы[20] имели пребывание в местах, наиболее густо населенных мусульманами и переселенцами[21].
При выработке мер второй категории, культурно- просветительных, особенно много внимания было уделено Совещанием «урегулированию школьно-просветительного дела»[22]. Основой мероприятий в области школьного дела, с точки зрения Совещания, должна была стать идея «полного разобщения конфессионального и общего образования в содержимых мусульманами учебных заведениях»[23]. Исходя из этого, предполагалось устранить из конфессиональных мусульманских школ предметы общего характера, в том числе русский язык и ограничить программу сугубо конфессиональными предметами. Преподавателями в этих школах не могли быть иностранные подданные, а преподавание должно было вестись только по печатным учебникам, изданным в России. Программы преподавания религиозных предметов должны были быть выработаны при участии авторитетных, с точки зрения Министерства внутренних дел, представителей мусульманского духовенства и утверждены правительственной властью. Уже существующие школы, имеющие в своей программе общеобразовательные предметы, должны были в течение одного года преобразоваться в училища по общим правилам о частных учебных заведениях, с подчинением их на общем основании надзору учебного начальства[24].
Кроме того, Совещание «приняло во внимание, что Россия настолько близко соприкасается с мусульманским миром, что ей необходимо занять подобающее место в научной разработке всего того, что этому миру присуще»[25]. В соответствии с этим, Совещание высказалось о необходимости дополнить курс восточного факультета С.-Петербургского университета кафедрами по изучению наречий, литературы, истории и этнографии «тюрко-татарских и иранских племен, населяющих русские области и прилегающие к нашим границам государства», а также образовать в Казани, «как одном из центров мусульманства, восточное отделение при филологическом факультете университета для изучения языков, истории и быта восточных народов, населяющих Россию и соседние с ней страны и исповедующих ислам»[26].
Среди основных причин «создавшегося на нашем мусульманском Востоке ненормального положения» Особым совещанием были названы «несогласованность действий отдельных ведомств и крайняя неосведомленность как центральных, так и местных правительственных органов с теми явлениями, какие происходят в мусульманском мире»[27].
Совещание признало необходимым «предоставить губернаторам в губерниях с мусульманским населением всеми доступными для них средствами озаботиться объединением представителей ведомств в интересах возможно широкой осведомленности и в целях изыскания мер, направленных к борьбе культурно-просветительными средствами с проникающими в мусульманские массы идеями, противными началам русской государственности»[28].
Немаловажным препятствием к контролю над мусульманским движением являлось, с точки зрения Особого совещания, «незнакомство должностных лиц с особенностями и укладом мусульманского быта и с инородческими наречиями»[29]. Ввиду этого, была запланирована организация при Министерстве внутренних дел специальных курсов для изучения должностными лицами мусульманских языков, религии, права и быта[30].
Также Совещание признало необходимость издания особого периодического органа, который отражал бы в себе направление внутренней и заграничной мусульманской прессы и вместе с тем служил бы вообще делу изучения ислама.[31] Также была признана необходимость издания на русском языке сборника постановлений мусульманского права по предметам, отнесенным действующими законоположениями к области гражданской юрисдикции магометанского духовенства[32], «каковой сборник содействовал бы осуществлению действительного надзора и контроля со стороны правительственных властей над деятельностью в этой сфере означенного духовенства»[33].
Точка зрения близких к правительству кругов русского общества наиболее ярко выражена и обобщена в работе действительного тайного советника и члена Государственного совета Вл. Череванского[34] «Мир ислама и его пробуждение»[35].
В первых же строках автор рассматриваемой работы констатирует, что «перед глазами культурного мира совершается на рубеже ХХ века усиленное проявление жизнедеятельности ислама...»[36].
Череванский утверждает, что «Европа и культурный мир издавна знакомы с тяжелым гнетом ислама»[37]. Автор ставит в один ряд такие явления всемирной истории как завоевание Испании и монголо-татарское иго на Руси.
Далее он констатирует, что «предначертания Аллаха оставались долгое время загадкой как для велико-княжеской Руси, так и для западной Европы»[38].
С позиций стереотипно-мифологического сознания, Череванский придает исламский характер моноголо татарскому завоеванию Руси: «Русские князья слагали свои головы перед золотоордынцами, не спрашивая: обязаны ли они своей печальной кончиной только дикому самовластию ханов, или последние являются простыми исполнителями заветов более мощной силы, возмечтавшей о пленении всего мира (курсив наш – И. А.)».[39]
«Ислам держал ее (Русь – И. А.) в повиновении в продолжение двух столетий и еще столько же времени парализовал ее движение по пути прогресса наследием своей косности и инерции»[40].
Справедливо отмечая, что «распространение в русском обществе, все еще не придающем силе и значению ислама должной оценки, безпристрастно сгруппированных сведений о первоучителе и первоисточнике ислама является настоятельной потребностью», Вл. Череванский сетует на то, что масса накопленного по этому вопросу материала, «страдает религиозным индифферентизмом»[41].
Автор утверждает, что он не принадлежит «ни к эллинам, хулившим ислам сверх всякой меры <...> ни к западникам (sic!), открывшим в исламе родник профильтрованного вероучения». По мнению Череванского, ислам представляет собой не самостоятельную религию, а «религиозно-политическое установление, претендующее на универсальность, какою не обладает ни одна из мировых религий»[42].
Череванский отмечает, что «электризация ислама последнего времени задевает слишком обширные интересы, чтобы оставлять его без критериума с русской точки зрения (курсив наш. – И. А.) и – попутно – без напоминания о возможности тройственного союза из Брамы, Будды и Мухаммеда». Эта русская точка зрения основывается на предположении о том, что Россия, которая, по мнению автора рассматриваемой работы, «вынесла на своих плечах многовековое иго ислама», должна будет «первой вступить в новую борьбу с исламом, если последний появится на арене состязания с христианством и главенствующей культурой».[43]
Опасность «пробуждения ислама» подчеркивается Череванским настойчиво, приобретает характер цивилизационной угрозы катастрофического порядка: «Пробуждение ислама зреет исключительно на почве воинственности и нетерпимости к европеизму. На этой почве нетрудно достигнуть примирения между монотеизмом исламитян и политеизмом желтой расы, которая давно уже разменивает своих племенных богов на национальное политиканство».[44] В другом месте эта идея выражена следующим образом: «При поражающей силе застой в духовной культуре мир исламитян становится угрозой культурному миру. Двухсотмиллионный контингент человечества устраняется добровольно и решительно от общего движения <...> не дает расширяться в своих пределах посторонним двигателям и, вместе с тем, устраняет от приобщения к культуре целые, не тронутые еще цивилизацией, расы».[45] Автор указывает, что «одолевающая Европу мания к вмешательству в чужие дела <...> вызывает <...> стихийную силу сопротивления, в распоряжении которой имеется <...> многомиллионное воинство, страшное не столько силой оружия и мужества, сколько традиционным пренебрежением к земной жизни, не могущей соперничать с блаженством загробного бытия».[46]
Вполне определенной заданностью характеризуются взгляды Вл. Череванского на проблему соотношения исламской религии и культуры. Стоит отметить, что понятие «культура», равно как и «цивилизация» в понимании Череванского может употребляться только в единственном числе. Культура здесь выступает не только универсальным, но и унифицированным понятием: неназванный критерий «культурности» того или иного народа или конфессиональной группы просматривается в построениях Череванского.[47] Этот критерий тот же, что и у представителей миссионерской школы — близость данного народа или религии к псевдохристианскому идеалу социально-нравственного прогресса. Никакой специфически исламской культуры, по Череванскому, не может быть, просто потому, что «Мухаммед не мог говорить в Коране о науке (которая рассматривается в данном дискурсе как основа «христианского» прогресса и кульутры — И. А.) по той простой причине, что, будучи неграмотным, он и не подозревал о существовании наук...».[48]
Череванский критикует положение образования в современном ему мусульманском мире, хотя и признает, что «была эпоха, когда стремление к свету было так велико, что студенты-исламисты совершали путешествия из Андалузии в Бухару, или из отдаленного Ввостока в Испанию, чтобы только послушать того или другого профессора».[49] Однако автор не признает непосредственной связи науки и культуры с исламом, утверждая, что наука возникла в мире исламитян во имя административных потребностей».[50]
Внутренняя иррациональная неприязнь к Череванского к исламу столь глубока, что в работе, претендующей на научную объективность, автор разражается тирадами такого порядка: «Культура [мусульманского мира. — И. А.], возникшая на почве хищничества, и прикрытая религиозными изречениями и цветами красноречия, продержалась ровно столько времени, сколько религиозное воодушевление поддерживало блеск властелинов»[51].
Причину упадка мусульманского мира Череванский видит в «коранической косности», от которой ислам не сможет освободиться самостоятельно[52]. Столь радикальные заявления, делающиеся в начале ХХ в., в эпоху расцвета научного исламоведения, не могут не испугать даже самого их автора. Победив этот страх замечанием о том, что «за исламом можно признать цивилизующее начало», но «только по отношению к народам низшей культуры»[53], Череванский, подпадая под власть другого страха перед исламом как таковым, возвращается к исходным позициям и утверждает, что «ислам является перед высшими расами таким привеском и тормозом, благодаря которому более 10% всего населения земного шара остаются из рода в род за флангом цивилизации»[54]. Под впечатлением созданной им самим ужасающей картины, автор рассматриваемой работы развивает пафос, достойный внимания не историка, а психиатра: «Задерживая на десять процентов умственное развитие всего мира, ислам дышит чем-то изсушающим, мертвящим, губящим и напоминает собой именно тот самум, о котором так картинно упоминает коран (с маленькой буквы. — И. А.)»[55].
Следуя характерной тенденции официальной историографии, ориентированной на создание своего рода методологии «научного православия», Череванский находит в истории ислама «блистательное подтверждение» идеи того, что «история человечества параллельна истории его богов»[56]. Для этого он привлекает свои представления о Боге ислама, основанные не столько на собственно исламских источниках, сколько на специфически препарированной православно-модернистским сознанием ветхозаветной концепции Бога. «Аллах ислама (sic!), – пишет автор, – не сочувствует многосторонности человеческого развития, Он полон вражды ко всему, что против Него <...>. Он не снисходит к человеку – и человек дрожит перед ним, забывая в этом постоянном трепете все свое человеческое назначение и считая культуру христианских народов за искушение, против которого следует бороться всеми силами и помыслами доброго исламитянина».[57]
Оценивая Мухаммада, Череванский не оставляет места не только для признания его пророческой миссии, что неудивительно, но и отказывает ему в вообще в каких бы то ни было выдающихся способностях, попутно нападая на Вл. Соловьева, сочувственно относившегося к Пророку[58]. Единственной заслугой Мухаммада Череванский считает «способность отнестись созерцательно к вопросам высшего порядка» и умение «воспользоваться временем, местом и обстоятельствами»[59]. С точки зрения Череванского, Мухаммад «принес человечеству более вреда, чем пользы», а Коран – не более чем «компилятивный труд, препятствующий переходу низших рас в число культурных стран и народов».[60] В качестве одного из объяснений культурного упадка мусульманского мира Череванский приводит весьма сомнительное с исторической точки зрения утверждение, что «вся история [ислама] написана кровью» и представляет собой «летопись палачей и секиры».[61]
Созданная Череванским концепция цивилизационного противостояния исламского мира (= варварства) и просвещенной европейской (= христианской) культуры, представляет собой идеологическую программу, обладающую всеми признаками политической мифологии, и апеллирующую к стереотипным пластам сознания в чисто политических целях. Разработка научно-идеологического обеспечения этой программы, укладывавшейся в доктрину «военного православия» и знаменитую триаду графа С. Уварова «православие, самодержавие, народность», осуществлялось на протяжении всей второй половины XIX в. Вся официальная историография была, по существу, подчинена задачам этой работы, одним из центров которой была, в частности, Казанская духовная академия и миссионерская школа исламоведения.
Вл. Череванский, будучи государственным чиновником высокого уровня, не принадлежал к кругу православных миссионеров, однако рассматриваемая работа написана полностью в русле данной школы. В качестве одной из основных интенций данного научно-политического направления можно, на наш взгляд, выделить стремление к своеобразному политически и цивилизационно заданному синтезу объективной науки и религиозно-политической программы «государственного» или «военного православия». Как уже отмечалось, для такого синтеза характерно определенное смещение акцентов относительно традиционной парадигмы видения мира в православии. Одним из элементов этого синтеза выступает метод использования науки для обоснования религиозно-политических целей, благодаря чему мы можем назвать такую доктрину «научным православием». «Научное православие» представляет собой, на наш взгляд модернистскую инверсию православной картины мира, неизбежную при попытке превращения православия в социально- политический проект. Этот процесс можно считать, в известной мере, реакцией на развитие позитивистской науки, однако скорее его следует рассматривать, в большей степени, как сознательную мифологизацию политики с попыткой введения «науки» как категории в сакральную религиозную модель мира. Вслед за казанскими исламоведами миссионерской школы, Череванский, начавший с заявления о собственной объективности, оперирует понятием «истинная наука», приобретающем в контексте его работы характер, сходный с понятием «истинная религия». «Только истинная наука, – пишет он, – может разрушить средостение» между миром ислама и миром «цивилизации», что, по мнению автора, является прямой обязанностью государства.[62]
Теоретические взгляды Вл. Череванского нашли отражение в его докладе, представленном им Особому совещанию по делам веры мусульман-суннитов, которое было проведено в 1905 г. под председательством графа А. П. Игнатьева.[63]
В этом докладе, в частности, содержались предложения о разделении Оренбургского и Таврического магометанских духовных собраний на ряд духовных правлений по региональному и этническому признакам.[64] В рамках данного проекта предлагалось изъять дела мусульман западных губерний из ведения Таврического духовного собрания и передать их в ведение нового – Петербургского – округа; присоединить Северный Кавказ к Закавказскому окружному правлению; расчленить Оренбургский муфтият на три округа: Петербургский, Уфимский и Сибирский. Таким образом, новая структура управления делами мусульман империи должна была включать в себя шесть окружных мусульманских духовных управлений: Петербургское (с центром в Петербурге), Крымское (с центром в Симферополе), Кавказское (с центром в Тифлисе), Сибирское (с центром в Троицке или Петропавловске), Оренбургское (с центром в Оренбурге), Степное (Киргиз-Кайсацкое с центрами в Акмолинске, Атбасаре, Иргизе) и Башкирское (с центром в Уфе). Как отмечает С. Г. Рыбаков, «Особое Совещание, признав и с своей стороны существенно важным противодействовать стремлению магометан к объединению на почве религиозных интересов, вполне согласилось с выраженною в докладе мыслью», одноко никаких конкретных мер принято не было.[65]
Предложения Череванского было поддержано и Особым совещанием при Министверстве внутренних дел по выработке мер для противодействия татарско-мусульманскому влиянию в Приволжском крае в 1910 г.
По мнению участников Совещания, Оренбургское духовное собрание «представляет из себя искусственно созданный центр мусульманства, способствующий татаризации других инородческих племен, исповедующих ислам и не принадлежащих к татарскому племени». В связи с этим, Особое совещание постановило «признать, что территориальная компетенция Оренбургского Духовного Собрания не соответствует <...> ни государственным интересам, ни интересам отдельных народностей, исповедующих ислам, и в виду этого предоставить Министерству Внутренних Дел войти в соображение о переустройстве духовного управления мусульман на началах его децентрализации».[66]
Однако спектр взглядов русской политической элиты на «мусульманский вопрос» не может быть сведен исключительно к политической исламофобии, основанной на архаизации религиозно-политического сознания. Свидетельством этому является позиция министра финансов и статс-секретаря С. Ю. Витте, который был на рубеже XIX–ХХ вв. одним из наиболее выдающихся и влиятельных государственных деятелей Российской империи.[67]
С точки зрения Витте, «когда около 35% населения – инородцы, а русские разделяются на великороссов, малороссов и белороссов, то невозможно в XIX–ХХ веках вести политику, игнорируя этот исторический, капитальной важности факт, игнорируя национальные свойства других национальностей, вошедших в Российскую империю – их религию, их язык и проч.».[68]
Значительный интерес для понимания взглядов Витте на «мусульманский вопрос» представляет его служебная записка от 25 октября 1900 г., адресованная военному министру А.Н. Куропаткину.[69]
После жестко пресеченного Андижанского восстания 1898 г., местная туркестанская администрация, подчиненная в Петербурге Военному министерству, опасалась дальнейшего роста «исламской угрозы» и выступила с предложениями по резкому усилению контроля над духовной жизнью мусульман не только в Средней Азии, но и на территории всей империи.[70] Этот проект вызвал подробную и достаточно аргументированную критику со стороны Витте. По его глубокому убеждению, отход от установленного в 1773 г. Екатериной II принципа толерантности по отношению к исламу мог привести к крайне опасным и негативным для страны последствиям. Министр финансов достаточно скептически отнесся к ставшей модной в «высших сферах» империи идее о грядущей победе «панисламизма», писал о том, что «панисламизм и его успехи у наших мусульман, явление еще весьма мало изученное», и сомневался в возможности «какого-нибудь религиозно-политического единения» различных, часто враждующих между собой мусульманских народов.
Витте опасался, что изменение имперского курса политики в «мусульманском вопросе» создаст дополнительные трудности для русской дипломатии. С его точки зрения, в условиях острого русского соперничества «на Востоке... с Европой» не надо, чтобы Россию в Азии воспринимали, как «враждебную силу», нельзя принимать меры, «которые могут дать повод к обвинению России в нетерпимости к исламу и породить неприязненное к ней настроение во всем мусульманском мире».[71]
Таким образом, в отличие от таких крупнейших государственных деятелей монархии и сторонников жесткой «антиисламской» линии, как К. П. Победоносцев и П. А. Столыпин, Витте обосновывал историческую необходимость, проведения более гибкой, толерантной политики Российской империи в «мусульманском вопросе».[72]
Тем не менее, в целом, большая или, во всяком случае, наиболее влиятельная часть русской государственной и политической элиты руководствовалась по отношению к исламу описанной выше консервативной программой «научного православия». Стремясь сохранить Российскую империю в том виде, как они ее понимали, а вместе с ней и самих себя как социальную группу, государственные деятели России начала ХХ в. не могли рассматривать ислам и исламский мир иначе как фактор дестабилизации сложившегося статус-кво.
При этом необходимо отметить, что, за исключением наиболее крайних идеологов «военного православия», для большинства русских государственных деятелей не была характерна тотальная исламофобия, и уж тем более, неприязнь к народам, исповедующим ислам. Рассматривая ислам вообще как религию и образ жизни в рамках концепции «научного православия», русская элита, тем не менее, не была готова вступить в эсхатологическую схватку, перспектива которой логически вытекала из данной концепции.
Кроме того, позиция властной элиты Российской империи, особенно в первое десятилетие ХХ века, все больше расходилось с настроениями русского общества, переживавшего глубокий идейный кризис, во многом связанный именно с формальным «торжеством» официального православия, как «военного», так и «научного». В религиозной сфере отражением этого кризиса было развитие богоискательства и так называемой религиозной философии, одним из ярчайших представителей которой был Вл. Соловьев, работа которого «Магомет» произвела революцию в представлениях образованной части русского общества об исламе.
С другой стороны, эволюция религиозно-культурной идентичности мусульманских народов России, рост общественной и политической активности российских мусульман также внесли свою лепту в изменения общественных настроений в империи. Очевидно, что отмеченный диссонанс власти и общества стал, наряду с множеством других разногласий, одним из слагаемых того раскола русского общества, который способствовал становлению революционной ситуации.
Подводя общий итог, можно отметить, что начало ХХ века стало периодом стремительной политизации мусульманского общественного движения в России. Среди факторов, оказавших существенное влияние на характер этого движения, следует назвать, с одной стороны, русскую революцию 1905-1907 гг., с другой стороны, общий процесс культурно-политического «пробуждения» мусульманского мира (ан-нахда). Тем не менее, предпосылки мусульманского культурно-политического движения можно найти в российской реальности XIX в., а корни этого явления уходят еще глубже. Более чем трехсотлетнее пребывание поволжских мусульман под российской властью не могло не наложить свой отпечаток на все стороны жизни мусульманского социума.
Конституционная революция 1907–1911 гг. в Иране и младотурецкий переворот 1908 г. в Турции, которые можно считать переломными точками процесса социально-политической модернизации Ближнего Востока, не могли не оказать определенного влияния на конструирование политической идеологии российского мусульманского движения. Однако, на наш взгляд, влияние младотурок и, тем более, иранских конституционалистов носило все же второстепенный характер. Решающую роль в формировании специфики мусульманского политического движения в России сыграли, по-видимому, процессы внутренней социальной и культурной эволюции мусульманских народов России.
Именно специфическое положение Поволжских мусульман в составе Российской империи способствовало занятию ими лидирующих позиций в общероссийском мусульманском движении и обусловило, во многом, специфику самого этого движения, в котором российские чиновники усматривали перспективу «татаризации» нерусских народов империи.
Политизация мусульманского общественного движения, резко усилившаяся после первой русской революции, обострила и без того назревшую проблему соотношения этнического и религиозного в структуре самосознания российских мусульман. Лидерство татарских интеллектуалов в этом движении обусловило специфику решения данной проблемы, равно как и специфику самого движения. Стремление быть вовлеченными в общероссийские политические процессы и, одновременно, обособленными от них, было вызвано амбивалентным характером идентичности татарской интеллектуальной элиты.
В сознании татарских интеллектуалов существовал конфликт между ориентацией на западные социально-политические модели, с одной стороны, и эмоциональной привязанностью к исламу, по крайней мере, как к символу социокультурной идентичности народа, с другой стороны, эта двойственность, бывшая для татар неизбежным следствием «вестернизации через Россию», была экстраполирована, благодаря их лидерству, и на остальных мусульман империи. Вместе с тем, эта же двойственность привела к постепенному нивелированию собственно исламской составляющей данного общественно-политического движения и превращения его в обыкновенный национализм.
Вместе с тем, тесная увязка этнического и конфессионального факторов при лидерстве поволжских татар создавала у русской элиты ощущение двойной угрозы. С одной стороны, империя, государственной идеологией которой было православие, стремительно терявшее свой вес в обществе, чувствовала внешнюю угрозу со стороны ислама как цивилизационного феномена, обладавшего гораздо большим ресурсом внутреннего саморазвития. С другой стороны, подъем национально-религиозного самосознания (а до конца гражданской войны едва ли можно говорить о каком-либо явном расчленении этнического и конфессионального факторов в мусульманском движении), создавал для русской элиты ощущение внутренней угрозы, ставившей под вопрос существование сложившейся модели империи, консолидированной вокруг культурообразующей роли «русской идеи». Обнаруживалось, что помимо русского православия в стране существуют и другие, не менее сильные и значимые факторы, способные формировать социокультурную идентичность на принципиально иной основе.
Объяснение феномена «возрождения ислама», наблюдавшегося на Ближнем и Среднем Востоке и затронувшего также и мусульманские регионы России, не могло быть найдено в рамках картины мира, опиравшейся на рациональную аргументацию христианского провиденциализма. Более того, сама эта картина мира грозила вот-вот разрушиться под натиском политических и социальных реалий эпохи. В этой ситуации, консервативной элитой предпринимались попытки спасти идею с помощью аргументации научно-политического характера. Тенденции прагматизма, всегда присутствовавшие в религиозной политике империи, оказались в этот период более чем когда-либо оттесненными на второй план.
В целом, с обеих сторон русско-мусульманского культурного и политического диалога было гораздо больше вопросов друг к другу, чем ответов на них. И та, и другая сторона переживала глубочайший кризис социокультурной идентичности, который, помимо собственно социальных противоречий, стал, вероятно, одним из важнейших слагаемых революционной ситуации в стране. Те из участников этого диалога, кому удалось пережить три русские революции, смогли, в конечном итоге оценить предложенную историей модель разрешения этого кризиса в качественно новых условиях.
Примечания:
[1] РГИА, Ф. 821 ДДДИИ.
[2] ГАРФ, Ф. 102 ДП.
[3] ГАРФ, Ф. 102, Особый отдел, oп. 240, д. 74, ч. 2, л. 142.
[4] Там же, л. 142–142 об.
[5] Там же, л. 142 об.
[6] Там же.
[7] Там же, л. 143.
[8] ГАРФ, Ф. 102, Особый отдел, оп. 243, д. 74, ч. 1, л. 6.
[9] ГАРФ, Ф. 102, Особый отдел, оп. 240, д. 74, ч. 2, л. 143.
[10] Там же.
[11] Публикацию его материалов см. Журнал Особого совещания для протвиводействия татарско-мусульманскому влиянию в Приволжском крае // Красный архив, 1929, Т. IV, V.
[12] См. Арапов Д Ю. Ислам в оценке российских государственных деятелей начала ХХ в. // Российская государственность ХХ века. – М., 2001. – С. 181.
[13] РГИА, Ф. 821, on. 133, д. 469, л.358-362 об. Публикацию данного документа см. Арапов Д. Ю. Министерство внутренних дел и «мусульманский вопрос» // Источник, 2002. – № 1. – С. 60–66.
[14] Арапов Д. Ю. Министерство внутренних дел и «мусульманский вопрос» // Источник, 2002. – № 1. – С. 61.
[15] Там же.
[16] Там же – С. 62.
[17] Там же.
[18] Там же.
[19] Там же.
[20] Т.е. епископы, не имеющие собственной епархии и состоящие при епархиальном архиерее в качестве помощника.
[21] Арапов Д. Ю. Министерство внутренних дел и «мусульманский вопрос» // Источник, 2002. – № 1. – С. 63.
[22] Там же.
[23] Там же.
[24] Там же. – С. 64.
[25] Там же.
[26] Там же.
[27] Там же.
[28] Там же.
[29] Там же.
[30] Там же. – С. 65.
[31] Там же.
[32] Там же. – С. 66.
[33] Там же.
[34] Владимир Павлович Череванский (1836–1914) – действительный тайный советник, сенатор, член Государственного совета. В 1869–1883 гг. – председатель Туркестанской контрольной палаты, в 1889–1897 гг. – товарищ Государственного контролера. Автор ряда аналитических документов по вопросам управления мусульманским населением Российской империи.
[35] Череванский Вл. Мир ислама и его пробуждение. – СПб.: Государственная типография, 1901.
[36] Там же. – С. I.
[37] Там же.
[38] Там же. – C. III.
[39] Там же.
[40] Там же. – C. III–IV.
[41] Там же. – C. V–VI.
[42] Там же. – C. VI.
[43] Там же. – C. VII
[44] Там же. – C. VIII
[45] Там же. – C. 244.
[46] Там же. – C. VII-IX.
[47] Там же.
[48] Там же. – C. 208.
[49] Там же. – C. 208-212.
[50] Там же. – C. 213.
[51] Там же. – C. 215.
[52] Там же. – C. 216.
[53] Там же.
[54] Там же. – C. 224-225.
[55] Там же. – C. 225.
[56] Там же.
[57] Там же.
[58] Там же. – C. 237-238.
[59] Там же. – C. 240.
[60] Там же.
[61] Там же. – C. 247.
[62] Там же. – C. 255.
[63] Алексей Петрович Игнатьев (1842–1906), граф, генерал-адьютант, в мае 1905 г. был назначен председателем Особого совещания для разработки изменений в действующем законодательстве, касающемся веротерпимости.
[64] См. Рыбаков С. Г. Устройство и нужды управления духовными делами мусульман в России. – Пг., 1917. – С. 38–40.
[65] Там же. – С. 40.
[66] Там же. – С. 40–41.
[67] Игнатьев А. В. С. Ю. Витте – дипломат. М., 1989. – С.7.
[68] Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1994, т. III – С. 261.
[69] РГИА, Ф. 821, оп. 150, д. 409, л. 3-30.
[70] Литвинов П. П. Государство и ислам в Русском Туркестане (1865 – 1917) (по архивным материалам). – Елец, 1998.
[71] РГИА, Ф. 821, оп. 150, д. 409, л. 4 об.
[72] Арапов Д. Ю. Ислам в Российской империи // Ислам в Российской империи (Законодательные акты, описания, статистика)/ – М., 2001. – С. 24–26.






 RSS
RSS