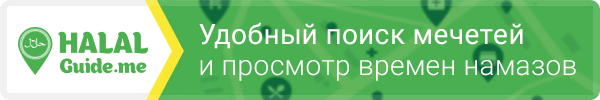Тимур Козырев: воспитать поколение имамов с широким кругозором
13.05.2013 17:07
Сегодня мусульманская умма Казахстана вместе со всем обществом переживает непростой исторический момент. Ясно, что на ряде направлений количество перешло в качество, и неизбежными становятся какието основательные перемены. Требует неотложного решения ряд серьезных проблем. Какие вопросы сегодня наиболее актуальны? С какими вызовами может столкнуться исламская община Казахстана в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы нам ответил заместитель директора Научноисследовательского и аналитического центра Агентства по делам религий РК Тимур Козырев.
— Тимур Анатольевич, позвольте начать с самой свежей новости. Как известно, только что произошла смена руководства Духовного управления мусульман Казахстана. На посту Верховного муфтия Абсаттара кажы Дербисали сменил Ержан Маямеров. Исламская умма Казахстана сейчас живет в ожидании какихто перемен. Что вы можете об этом сказать?
— Чтолибо конкретное сказать можно будет несколько позже, судя по первым результатам деятельности нового муфтия. Сейчас я могу лишь сказать, что процесс смены поколений в руководстве муфтията — само по себе нормальное явление. Кроме того, радует, что мусульманской уммой Казахстана будет руководить человек с классическим исламским образованием, это внушает определенную надежду. Быть муфтием огромная ответственность, а в условиях современного Казахстана с его непростой религиозной ситуацией — тем более. Остается лишь пожелать уважаемому Ержанухазрату мудрости и мужества, чтобы твердой рукой вести свой «корабль» прямым путем, не уклоняясь от правильного курса и избегая любых крайностей.
— Не удержусь от острого вопроса. Как Вы можете прокомментировать слухи о принадлежности Маямерова к какимто течениям? Что за этим стоит?
— Простите, а почему я должен комментировать слухи? Обвиняя человека в принадлежности к какомуто течению, следует это тщательно доказывать фактами. Пусть заинтересованные лица доказывают, если хотят. Вот и весь комментарий. Что касается вашего вопроса, что за этим стоит… По моему мнению, это лишь попытка спекуляции на обеспокоенности какойто части мусульманской общественности по поводу сохранения хрупкого мира внутри уммы на фоне происходящих перемен.
— Что Вы имеете в виду?
— Несмотря на все разногласия и трения между различными течениями, в казахстанском исламе эта борьба, к счастью, до сих пор не принимает форму открытого противостояния, как это случилось, например, в Дагестане. Прежде всего, я имею в виду, конечно, разногласия между представителями той формы ислама, которая у нас считается традиционной (сочетание ханафитской правовой школы с матуридитской доктриной в богословии) и салафитами. В Казахстане сегодня даже такфиристы, как правило, регулярно посещают мечеть и становятся на намазе за имамом.
Таким образом, мечеть сегодня — это последняя ниточка, связывающая этих людей с остальным обществом, не дающая комуто из них переступить последнюю черту, у которой они уже стоят. Именно это оставляет надежду на возможность их переубеждения и возвращения к нормальной жизни в гармонии с окружающим миром. Иначе говоря, при всех имеющихся проблемах, нам пока есть что терять.
— Что Вы могли бы порекомендовать муфтияту?
— У меня нет полномочий напрямую чтолибо рекомендовать муфтияту. Могу лишь повторить то, что высказывал и раньше в ряде публикаций. На мой субъективный взгляд, идейное противодействие «нетрадиционщикам» всех видов и мастей — имею в виду «вещание» на широкие массы верующих — должно идти, в первую очередь, на том направлении, где их пропаганда приносит непосредственный вред. Говорить о простых и понятных вещах, которые любой простой казах «чувствует позвоночником». Например, если ктото утверждает, что казахские традиции — «ширк» и «бидъат», значит, надо доказывать обратное, неустанно разъяснять исламскую сущность многих народных традиций, в том числе формально отсутствующих в шариате. Если позволите, приведу свой любимый пример — беташар, изза которого часто происходят жаркие споры с салафитствующей молодежью. Да, ничего такого вроде бы нет в Сунне. Однако примечательно, что этой традиции нет у близких родственников казахов — таких тюркских народностей как, например, алтайцы и хакасы в Южной Сибири, близкие к казахам по происхождению и культуре, но оставшиеся вне ислама.
Зато у казанских татар, чья традиционная культура в целом отстоит намного дальше от казахской, существует очень похожий обычай. В татарской версии он проще, без домбры и песнопений. Просто сидит девушка с закрытым лицом, а потом его открывают. Смысл ясен — раньше она была чужая для этой семьи, и на нее нельзя было смотреть, а теперь она стала своей. Иначе говоря, такой обычай в принципе мог возникнуть только в культуре мусульманского (!) народа, только внутри исламской системы смыслов. И стоит десять раз отмерить, перед тем как обозвать это «ширком» изза внешнего сходства легкого поклона невесты с рукуъом на намазе.
Или, например, если ктото всерьез утверждает, будто казахи лишь в 1990?е годы начали принимать ислам (а раньше были вне его?), такое «головотяпство со взломом» надо останавливать, донося народу правду о его истории, о ее тесной связи с исламом и мусульманской культурой в целом. Кстати, наш Центр готовится в скором будущем выпустить два серьезных научных труда. Один — о связи казахского адата с исламом, другой — о религиозном наследии казахских мыслителей. Наконец, если комуто не нравятся положения ханафитского мазхаба — это как раз практические вопросы, в том числе как правильно держать руки на намазе, как произносить «аминь», и многое другое — также следует грамотно обосновывать правоту традиционной школы. Но о сугубо богословских тонкостях следует говорить лишь в ситуациях, когда это становится совершенно необходимым. Допустим, в случае прямой провокации с той стороны либо в кругу специалистов. В медресе или в университете «Нур», естественно, должен преподаваться весь круг исламских дисциплин, включая акиду.
— Возвращаясь к нападкам на нового муфтия, всетаки какие именно риски Вы имели в виду? На каких опасениях спекулируют авторы «теории заговора»?
— Я имел в виду, что надо, не уступая в принципиально важном, все же оставлять представителям той стороны возможность сделать шаг навстречу. Если же перегнуть палку, если с минбаров мечетей зазвучит, например, что «ваххабиты — это неоязыческая секта, поклоняющаяся Трону и Небу помимо Аллаха» (дословно такое утверждение лично я видел в одной книжке из Татарстана, написанной явно с благими намерениями), тогда порвется последняя нить, еще соединяющая казахстанскую умму в некое подобие хрупкого целого. Тогда неизбежным станет дагестанский сценарий — открытое противостояние с непредсказуемыми последствиями. Это самое опасное, что может сейчас произойти. Да, муфтият сегодня крепко встает на ноги и уже способен говорить со своими оппонентами с наступательных позиций. Но когда тянешь ведро из колодца на тонкой веревочке, надо тянуть постепенно, потому что если резко рвануть, веревка оборвется, ведро упадет. От этого проиграют все.
Наконец, в исламском дальнем зарубежье идейное противостояние традиционалистов с салафитами не всегда носит столь жесткий характер, как в странах СНГ. Есть немало ученых с обеих сторон, занимающих более сдержанную позицию по отношению друг к другу. Например, покойный ректор «АльАзхара» шейх Тантауи, Салман Ауда из Саудовской Аравии и целый ряд других. Поэтому я надеюсь, что без тотальной «войны на истребление» всетаки удастся обойтись. По крайней мере, тем, кто способен на компромисс, надо оставить такую возможность, не загоняя их в угол. Невозможно залезть в голову людям и заставить их изменить свое вероубеждение, но требовать адекватного, неконфликтного поведения по какимто общепринятым правилам не только можно, но и должно.
— Кроме борьбы с «нетрадиционщиками», чему еще, по вашему мнению, должно уделить внимание новое руководство Духовного управления мусульман Казахстана?
— Работы очень много, и все ее направления связаны между собой. Главная проблема, как всегда, кадры. Проблема серьезная и решаемая только постепенно, в долгосрочной перспективе. Именно в этом направлении необходима упорная работа по дальнейшему повышению квалификации имамов. При этом в идеале желательно воспитать поколение священнослужителей, не только обладающих глубокими религиозными познаниями, но и в целом с широким кругозором, посветски образованных.
— Кстати, не так давно Вы говорили о «трех китах» борьбы с псевдорелигиозным экстремизмом — религиозная грамотность, светская образованность и развитое национальное самосознание. Эти Ваши слова запомнились многим. Скажите, пожалуйста, повышение уровня религиозной грамотности населения — это ведь тоже задача муфтията?
— Да, но не только его. Муфтият должен обеспечить возможность получить религиозные (исламские) знания всем, кто к этому стремится. Но религиозная грамотность — это более широкое понятие. Быть религиозно грамотным значит ориентироваться в базовых понятиях крупнейших религий. Например, четко понимать принципиальную разницу между религией Бога и оккультными учениями, или уметь отличать, скажем, «деизм» от «пантеизма», «предопределение» в исламе от «кармы» в индуизме и так далее. То есть даже атеист может быть в некотором смысле слова религиозно грамотным. Допустим, в странах, где религиозная традиция в целом никогда не прерывалась. А у нас у многих до сих пор, простите, просто каша в голове. Поэтому я считаю, что повышение религиозной грамотности — это задача не только священнослужителей. Скажем, многострадальную дисциплину «Религиоведение» необходимо для начала качественно преподавать хотя бы в нескольких ведущих университетах.


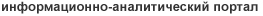



 RSS
RSS