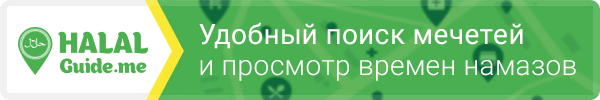Цветок единенья
12.11.2007 18:24
Исламские мотивы в стихах поэтов русской эмиграции
Первые русские книги о путешествиях в страны Ислама появились еще в средневековье. Живыми впечатлениями от исламского Востока насыщены стихи ряда заметных поэтов пушкинского Золотого века русской поэзии. Что же касается авторов века Серебряного, то путешествие в Стамбул, Дамаск, Каир было для них уже делом обычным, а ктото добирался и до Тегерана и Багдада (о Самарканде и Бухаре не приходится говорить: эти великие исламские города тогда уже принадлежали Российской империи).
Влекло в паломничество не простое любопытство. Здесь, пожалуй, была особая склонность души, как бы ее предрасположенность к исламской жизни — страстная влюбленность, с годами лишь усиливавшаяся. Но вот произошли революционные потрясения, прокатилась Гражданская война, выплеснувшая миллионы российских граждан в туманное зарубежье. И сотни тысяч прошли только через один Стамбул, многие надолго задержались и в Турции, и в Египте, и в странах Магриба. Некоторым пришлось доживать там. Все это были теперь уже не туристы, и не пилигримы, а бедные изгнанники. Для многих знойный Ближний Восток стал тягостной и странной чужбиной.
Конечно же, среди эмигрантов нашлись поэты (в так называемом «русском зарубежье» сложилось несколько поэтических поколений, пополнявшихся новыми волнами эмиграции). Но теперь обращение в стихах к исламским темам, к мусульманской жизни вызывалось уже не какимлибо изначальным предрасположением, а самими условиями бытия и обстоятельствами быта. Вот когда — не в книжном, а в непосредственном соприкосновении с мусульманской культурой, в равном и повседневном общении с мусульманами — проявилась та великая особенность культуры российской, которую Достоевский особо отмечал в творчестве Пушкина «всемирная отзывчивость». И лучшие стихи поэтов эмиграции замечательны правдой ощущения, всепониманием, духом братства и единения.
Теперь расскажем об этих поэтах хотя бы немногое… Константин Льдов (1862–1937) был видным поэтом 1890х годов. В Первую мировую войну обосновался в Париже и умер в изгнании. В трогательном стихотворении «Кабилы» выражено сочувствие алжирским стрелкам, мусульманам, мобилизованным на чуждую им войну. Их судьба сравнивается с участью русских эмигрантов, также оказавшихся вдали от родины.
Иван Умов (1883–1961) — поэт бунинской школы. По окончании Московского Лазаревского института был назначен вицеконсулом в Александрию. После революции остался в эмиграции. Был полиглотом, знал, в частности, арабский, персидский, арамейский языки. Ряд стихотворений Умов посвятил исламскому Востоку.
Юрий Терапиано (1892–1980) принял участие в гражданской эмиграции. Увлеченный суфизмом, написал ряд стихов, содержащих исламские мотивы. Владимир Набоков (1899–1972) — крупнейший писатель русского зарубежья, всемирно знаменитый прозаик и великолепный лирик. Его путь в эмиграцию прошел через Крым и Стамбул, где остро ощущались исламский характер сказочно прекрасной земли и незримое присутствие Аллаха в небесах.
Галина Кузнецова (1902–1976) известна прежде всего как мемуаристка, автор «Грасского дневника» (1967). Последняя любовь Бунина, она была и его литературной ученицей. Некоторые стихи посвятила воспоминаниям о дороге изгнаний, пролегшей через Турцию.
Игорь Чиннов (1909–1996) — видный поэт, прошедший долгий путь скитаний и после войны ставший профессором славистики в университетах США. Недавно в России вышел его двухтомник.
Евгения Димер родилась в 1925 году. В годы войны оказалась на Западе, поселилась в США. Автор ряда поэтических сборников. Приводимое стихотворение посвящено современной столице Марокко Рабату, городу, который является одним из центров арабской культуры.
КОНСТАНТИН ЛЬДОВ
Кабилы
Войны чудовищный размах,
Во всем его лукавом блеске
Сюда забросил вас в чалмах
Иль с полумесяцем на феске.
Громады пышные столиц
Для вас докучная чужбина:
В горячей бронзе ваших лиц
Не наша северная глина.
В глазах — не наш пытливый ум:
Костров сверкающие угли!
И, если б здесь настиг самум,
Ему сказали б вы: «Не друг ли,
Не ты ли, пламенный Пророк,
Дохнул на нас в стране тумана?»
И прошептали б на восток
Строфу начальную Корана…
Не так ли мы, мой нежный друг,
Блуждая в сумрачном Париже,
Родную речь заслышим вдруг —
И к ней придвинемся поближе?
Не все ль равно, что скажут нам,
Таким же чуждым и прохожим?
Но этим родственным струнам
Не откликаться мы не можем.
***
ИВАН УМОВ
Цветок единенья
Умру я в далеких краях,
Но прах мой летучий
Самум унесет на крылах,
Всевластный и жгучий.
И вновь посещу я места,
Где мукой и страхом
Была мне твоя красота,
Где ты стала прахом.
Но верный надеждам былым,
Презрев расстоянье,
Мой прах ляжет рядом с твоим
В блаженстве слиянья.
Лишь ветер взволнует песок;
Я, ставши землею,
В былом от тебя так далек,
Смешаюсь с тобою.
И ливнем прольется восток,
И волей Аллаха
Раскроется новый цветок
Из общего праха.
Лазурный, с кровавой каймой,
Он символом будет,
Что веры и муки земной
Душа не забудет.
К нему бедуины придут,
Сыны вдохновенья,
Склонившись, его назовут
Цветком единенья.
И вечно он будет цвести,
Где алоэ рдеет,
И венчик его занести
Песок не посмеет.
***
ЮРИЙ ТЕРАПИАНО
Глубину одиночества мерьте
Божьей мерой и мерой людской
В час, когда приближается смерти
Неподвижный и страшный покой.
«Даже смерть, все пройдет,
все проходит» —
Так гласила арабская вязь
На могильном столбе, на восходе
Блеском солнца и моря светясь.
В Истанбуле сады расцветали,
Ветер с юга дыхание нес…
Мы мудрее теперь. Мы устали.
Что нам розы? Сейчас не до роз!
***
ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА
Турецкое кладбище
Огнем пылают оконца
Домов, взбежавших на мыс.
Зажмурю глаза от солнца,
Обниму рукой кипарис.
Как нежно апрельский ветер
Касается жарких губ!
Дрожат в лучезарном свете
Дымки пароходных труб.
Внизу бубенцы и топот,
Веселая жизнь долин,
А здесь кипарисов шепот
И важный покой вершин.
И кажется: легкой птицей
В столетних ветвях шурша,
Поет над земной гробницей
О вечной жизни душа.
***
ИГОРЬ ЧИННОВ
В мечети султана Ахмета
Простор, тишина, пустота.
Забудем стамбульское лето:
Мечеть холодна и чиста.
Цветы неизвестного рая
На синих ее изразцах.
На них, вероятно, взирает
Невидимый людям Аллах.
Огромнопустое пространство,
Вверху — полутьма, полусвет.
Прими от меня, иностранца,
Аллах, иностранный привет.
И мы от незримого Бога
Хотим очевидных щедрот.
… Левей Золотого Рога,
Как роза, небо цветет.
* * *
Что может быть в жизни
плачевней
Арабского сора и хлама —
А небо над крепостью древней
Горело большой орифламмой .
Старуха хлебнула лекарства
(Рука — Иоанна Предтечи),
А птицы — нездешнее царство
Над грудами грузной мечети.
С высокого неба раздастся
Медлительный зов муэдзина,
И сумерки — синяя астра,
Синеющий веер павлина.
Я знаю, сейчас мы узнаем
О чемто нездешнем и лучшем.
И небо сливается краем
С напевом блаженнотягучим.
***
ВЛАДИМИР НАБОКОВ
Стамбул
Всплывает берег на заре,
летает ветер благовонный.
Как бы стоит корабль наш сонный
в огромном круглом янтаре.
Кругами влагу бороздя,
плеснется стая рыб дремотно,
и этот трепет мимолетный —
как рябь от легкого дождя.
Стамбул из сумрака встает:
два резкочерных минарета
на смуглом золоте рассвета,
над озаренным шелком вод.
Апрель 1919. Золотой Рог
***
ЕВГЕНИЯ ДИМЕР
Рабат
Строители спешат, на части
землю рвут;
Рабат увяз в бетоне и железе;
Он небоскребами, как щупальцами
спрут,
Из леса пальм упорно в небо лезет.
Сверкают окна там,
бросает вспышки медь,
И полыхают никелем машины;
А рядом выплыла старинная
мечеть
Изза потертой временем Медины*. —
Плюет в детей верблюд неукротим,
Чарует флейтой кобр араб мохнатый.
И в море нищеты ковчегом золотым
Возвысились султанские палаты.
Над шумным городом
несутся джеты ввысь,
Но часто аисты кружатся тоже;
Здесь тесно Запад и Восток
переплелись,
Друг друга не сразив, не уничтожив.
И солнце на своем пути, войдя в зенит,
В мираж включив Рабата панораму,
Где под густой чадрой Корана
жизнь кипит,
Не выпуская прошлого упрямо.


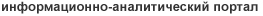



 RSS
RSS